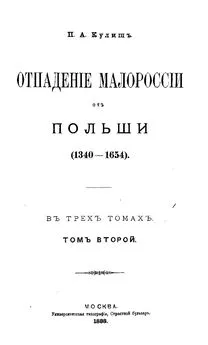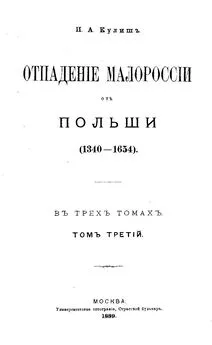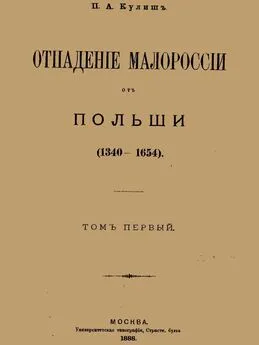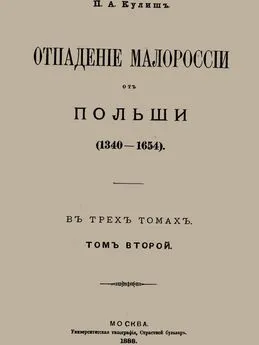Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Название:История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Товарищество Общественная польза
- Год:1877
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] краткое содержание
История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ГЛАВА XXIII.
Какие люди считались в русском обществе залогом его возрождения. — Источники умственного движения в юго-западной Руси. — Университетское и училищное образование в современной Германии. — Представители русской образованности. — Возбуждённая гонениями религиозность народа.
Отпадение в унию двух самых учёных и талантливых сподвижников Иова Борецкого заслуживает особенного внимания историка. Смотрицкий, Сакович и подобные им передовики умственного движения в ту бедственную эпоху общественной жизни на юге русского мира отличены историографией по их кажущимся, но вовсе не по их существенным преимуществам перед современниками. Они были писатели; они оставили по себе осязательный для каждого след; и вот их имена из области библиографии, которая ведёт одну регистрацию книжного дела, перенесены в область науки, имеющей своим предметом характеристику общественной жизни. Ни Смотрицкий, ни Сакович сущности общественной жизни своей умственной деятельностью не выражали. Оба они были не что иное, как социальная залежь, замечательная лишь особенностью породы своей. Они в социологии являются подобием того, что в минералогии представляет так называемый ленточный агат. Выветрившуюся часть ленточного агата подделывают известным способом, чтобы возвысить красоту резьбы на пласте цельном; и не многим из ценителей обработанного таким образом камня приходит в голову, какую важную роль играет в нём подделка. Так и некоторые характеры, будучи принадлежностью известного общества, ценятся иногда выше других только потому, что их возможно было подделать. Нет ничего удивительного в том, что Иов Борецкий и его ближайшие сотрудники не замечали двоякости формации подобных характеров и принимали их за цельные, невыветренные самородки. Гораздо удивительнее, что, в предпринимаемой борьбе с папизмом, не такие представители общества, как Смотрицкий и Сакович, считались у них залогом возрождения общества.
Первым актом восстановленной в Киеве иерархии было «Советование о Благочестии». Так православные люди назвали постановленные ими соборно, в 1621 году, правила, которыми следует руководствоваться в бедственном состоянии того, что в то время можно было разуметь конкретно под именем русского общества в нашей отрозненной Руси. Смотрицкий, как новопосвящённый архиепископ, без сомнения, участвовал в руководящих беседах при составлении соборных правил, и если кто, так он особенно мог бы проявить свою «многонаучную» личность в этой программе действия. Оказывается совсем другое. Смотрицкого не видать в «Советовании о Благочестии»; не видать его в этой важной манифестации, как человека науки, в спасительное действие которой он веровал больше всех других членов церковной иерархии. Обстоятельство загадочное. Можно думать, что он уже и тогда помышлял о примирении русской церкви с унией, как это было впоследствии, и что поэтому предоставлял он втихомолку людям убеждений обветшалых идти мечтательным путём народной самобытности. Но можно думать и так: что южнорусское общество, вдохновенное опасностью момента, возвысилось над тем, что составляло личные преимущества его сочлена, образованного в западных университетах, и обратилось к иным, более надёжным органам веры и церкви.
В «Советовании о Благочестии», рядом с учреждением школ, говорится об учреждении братств. В нём порицаются «неучи, не знающие священного писания», но тем не менее высокой науке противопоставляется апостольское благочестие, и только этому благочестию придаётся та непреоборимая сила, которая долженствует спасти церковь. «Ипатий Потей, Рогоза и другие их единомышленники (говорит «Советование») были не малыя головы, однако ж предки наши, и многие из них весьма простые, дерзали обличать их безбоязненно. То же подобает делать и всем православным».
Собором Борецкого было решено, между прочим: ещё при жизни епископов, назначать им надёжных преемников, чтобы лишить известную факцию возможности подставлять на их места, якобы законным путём, предателей православия, как это случилось по смерти некоторых владык и жидичинского архимандрита. «Отныне (говорит «Советование»), хотя бы на нас низвергали стрелы, мечи, огонь и воды жестокосердия, но епископы да преемствуют один дрогому».
Столь энергическая решимость православного южнорусского общества опиралась всего больше на предание, на этот важный элемент всякой народности и церкви. Собор Иова Борецкого, как народная, концентрированная в религиозных людях интеллигенция, сознавал соединительную для русского мира силу древних воспоминаний. Он постигал сердцем утаённое от школьной науки. Его горячая любовь к родному находила себе пищу даже во временах легендарной старины.
Для истории событий всего важнее достоверность события. Для истории мнений, от которых зависит самый ход и характер событий, важна не столько фактическая сторона явления, сколько то, как это явление подействовало на образование известных убеждений. Отсюда многое, чего нельзя доказать или что можно опровергать умственно, делается неопровержимым нравственно, и влияет на общество могущественнее достоверного. Так на древних русичей повлияло известное сказание киевского летописца о путешествии святого апостола Андрея по Днепру. Не сомневаясь в истине предания, летописец обстоятельно повествует о том, как апостол Андрей остановился на том месте, где в последствии основан Киев, и возвестил ученикам своим, что «На сих горах воссияет благодать Божия». Для нас это наивное сказание представляет характеристику времени; для наших предков, чуждых исторического критицизма, оно было предметом такой же веры, как и для самого летописца. Мы больше размышляем, нежели чувствуем; наши предки больше чувствовали; нежели размышляли. И потому-то они в своём «Советовании о Благочестии» написали следующие трогательные строки:
«Так как святый апостол Андрей — первый архиепископ константинопольский, патриарх вселенский и апостол росский, и на киевских горах ноги его стояли, и Россию очи его видели и уста благословили, и семена веры он у нас посеял; то справедливым и богоугодным будет делом возобновить торжественно и нарочито его праздник. Воистину Россия ничем не меньше других восточных народов: ибо в ней проповедником был апостол».
Но где взять достойных продолжателей апостольской проповеди? Где найти людей, которые бы, подобно древним пророкам и апостолам, воздвигли общество из того упадка, в какой враги веры привели его страхом и соблазном? Мысли борцов зa православие обратились на Восток.
«Послать к константинопольскому патриарху за благословением, помощию и советом, послать и на святую Афонскую гору, чтобы вызвать и привести преподобных Киприана и Иоанна, прозванием Вишенского, и прочих там находящихся, процветающих жизнию и богословием. Предстоит также и русских, искренне расположенных к добродетельной жизни, посылать на Афон, яко в школу духовную».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/1100112/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom.webp)