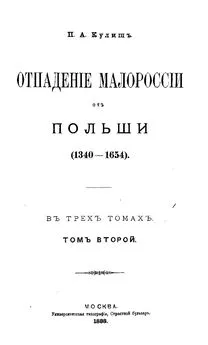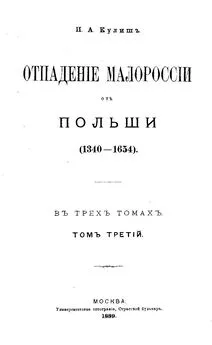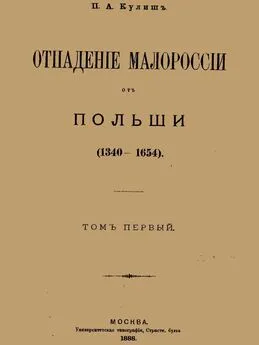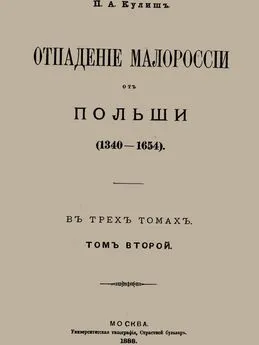Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Название:История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Товарищество Общественная польза
- Год:1877
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] краткое содержание
История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И видели многие под гордой аркой оттоманских ворот обезображенную смертью голову пана Станислава; и дошёл слух о том до его Андромахи, Регины Гербуртовны; и каждый, кто чует в истории ту жизнь, которой мы продолжаем жить среди наших близких и дорогих, поймёт, какой музыкой загремела эта весть в сердце Регины. С мужем отправился на войну единственный сын их, Ян. Раненый в ногу на Цоцоре, он очутился в плену у перекопского санджака: добыча драгоценная! Счастливый татарин требовал за выкуп гетманича громадную по тому времени сумму — 200.000 талеров.
Всё это сделалось известным не вдруг в Подгорском замке, построенном доблестной Региной. Как бы щадя любящее сердце, сперва носились приготовительные, тёмные и разноречивые слухи. Пограничные замки червоннорусских панов, по выступлении в поход мужей, братьев, сыновей, резко превращались из оживлённого военного стана в безмолвные монастыри. Женщины, до тех пор деятельные участницы походных приготовлений, принимали на себя долг молитвы и, по духу века, по обычаям религиозной практики, одевались в монастырские чёрные рясы, в монашеские чёрные с белым капюшоны. Фамильные галлереи портретов, уцелевших со времён оных, полны изображениями инокинь. То были жёны, сёстры, дочери казакующей шляхты, заблаговременно обрекшие себя на траур. В таком виде дошёл до нас и величавый лик Регины. Сохранились письма Станислава Жовковского, полученные от него Региной из-за Днестра, из этой Волощины, которая была ареной стольких рыцарских подвигов с того отдалённого времени, когда братья Струси ещё не сознавали различия между паном и казаком, когда родовитые защитники Поднестрия были ещё русскими среди русского народа, и когда о них, как впоследствии о неизвестных в истории Ганжах Андыберах, складывались песни, quae dumae vocantur. В этих письмах crescendo сгущается мрак великой беды, наступавшей на казаков-акратористов за Днестром. Их печальная прелесть не заменима ничем для польского уха, но русскому чувству сказывается в них та мужественная поэзия, которая в Слове о Полку Игореве ярко живописует нам исчезнувшее варяжское общество, протопласт общества полоноказацкого. И, как Ярославна плакала в пограничном городе Путивле, так Регина тревожилась и тосковала в своём украинном замке-монастыре.
Нет, Регина была не способна, подобно Ярославне, бесполезно летать зегзицею по дунаеве. Она была родственна первой великой русской женщине Ольге: она любила мужа героически, она служила ему правой рукой, и по его смерти думала только о кровавой тризне. Такая женщина, как Регина, снилась в поэтическом сне юному гению Мицкевича, когда он пробовал свои новые струны, чтобы принести дань сочувствия литовско-русским Гезаням, Кадыням, Бирутам и другим пересоздательницам Литвы в Русь, которые зачастую спасали мужей своих от позорных уз и от самой смерти. Прежде всего обратилась Регина к своему племяннику по сестре, Фоме Замойскому. В качестве самостоятельного государя, киевский воевода Фома Замойский не счёл почему-то нужным принять участие в походе, на котором, как читатель, конечно, помнит, настаивала местная шляхта, терроризуя по-казацки своего Гектора. Недавно женился он на княжне Острожской и занимался устройством своего государства с той беззаботностью о целом крае, которая погубила его предков, удельных князей, не образумленных дяже и такими предостережениями, как вдохновенная песнь о реке Каяле. Регина отправила к нему гонца, прося, требуя и заклиная всем святым спешить на выручку руководителя юности его, друга отца его, благороднейшего из опекунов его. Нигде не щадила Регина ни денег, ни просьб, ни мужественного красноречия Девворы, где только представлялась возможность собрать какое бы то ни было войско. Она нанимала ветеранов шляхтичей, густо сидевших по Подгорью в своих загродах с гордым спокойствием воевод; [149]нанимала и казаков, которым так же, как и их антиподам — шляхте, мало было дела до того, что у соседа занялась уже хата. Среди хаоса социальных понятий и воззрений, отличавшего польскорусское общество, героическая Регина Гербуртовна явилась таким же вдохновительным деятелем, как и та, которая взывала некогда к разъединённому Израилю: «Полно вам сидеть между овчарнями да слушать блеяние стад! Полно вам надмеваться о себе и отстраняться от вашего дела! Проклят город Мероз! Прокляты жители его, за то, что не пришли в помощь Господню, в помощь Господню к героям»! [150]Регина, подобно дочери Лапидофовой, быстро собрала войско, и сам пан воевода киевский, на челе восьмисот надёжных рыцарей, оставил своё самостоятельное государство — свои обширные влости и королевщины. Но было уже поздно.
Уже беглецы с цоцорского побоища наполнили всё Подгорье страшными вестями. Погибли все паны со своими блестящими почтами; погибли и все казаки, панские приятели или наёмники. Пал и коронный гетман, представитель силы аристократической; пал и Михайло Хмельницкий, о котором никто ещё не мог тогда сказать, которую из двух противодейственных сил представлял он, обороняя своими чигиринцами имущественные интересы Даниловича, но которого смерть, однако ж, занесена в современные мемуары. Ужас воображения, наведённый на всё общество приливавшими с каждым днём новыми и новыми вестями, сменился наконец ужасом реальным. Тот самый Скиндер-баша, с которым пан Ожга, от имени Жовковского, так внушительно беседовал над Днестром, разбил теперь Жовковского наголову, и всё Поднестрие наводнил татарами. Пожары и пленения обняли со всех сторон замок Жовкву, и Кантемир, гордый мурза, памятный читателю по 1617 году, грозил овладеть всем домом лехитского сердара. Собранные Региной ополчения едва успели охранить её резиденцию среди тех ужасов, которые совершались в непосредственной её близости. Целый месяц наполняли татары львовское Подгорье своими загонами, собирая по сёлам и фольваркам ясыр, угоняя стада, истребляя огнём постройки и хлебные запасы. Города и замки оборонялись; некоторые землевладельцы оплачивали свои хозяйства данью. Татарские коши или таборы обращались в ярмарки, где продавались пленные мужчины, женщины и дети вместе с захваченным скотом и драгоценными для панов и мужиков церковными утварями. В татарских таборах узнавали, где искать знатных панов, зажиточных шляхтичей, попов, попадь и поповен, уведённых в татарскую и турецкую неволю. Узнали там и о том, где находится тело коронного гетмана. Оно, как ценный товар, объявлено в продаже без головы. Голова оценена в известную сумму отдельно.
Обстоятельства, предшествовавшие катастрофе, характеристичны, и мы должны на них остановиться, чтоб возыметь более точное понятие о той малочисленной, всегда малочисленной дружине русской шляхты, которая так долго сдерживала напор на культивированную Русь азиатской дичи и обуздывала номадные инстинкты казаков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/1100112/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom.webp)