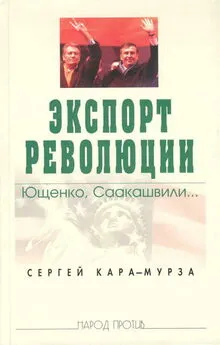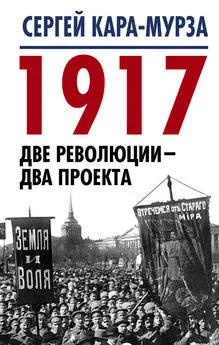Сергей Кара-Мурза - 1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта
- Название:1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кара-Мурза - 1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта краткое содержание
1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это очень странное заявление: как могло общество, раздираемое многими противоречиями и разделенное несколькими проектами развития, совершить катастрофическую революцию с неизбежной гражданской войной, в едином порыве всей нацией! Всем было очевидно, что эта революция — эпизод в огромном процессе, в котором «все классы и все общественные группы ставят перед собой задачи» вовсе не одинаковые, а даже антагонистические.
Легальный марксист кадет Струве писал (1905 г.): «Понятие социальной революции как теоретическое понятие не только лишено значения и бесцельно, но прямо-таки ложно. Если “социальная революция” должна означать полный переворот социального порядка, то она не может быть в наше время иначе, как в форме продолжительного непрерывного процесса социальных преобразований». Такие рассуждения воспринимались как демагогия. 85М.И. Туган-Барановский, легальный марксист, экономист и кадет, сразу после Февраля 1917 года заявил, что эта революция является не только политической, что доказывали либеральные политики, но и социальной. Это было очевидно!
Кадеты оценивали Февральскую революцию только как политическую , создающую необходимые условия для строительства капитализма и демократии как всенародный проект — без социальных преобразований? Как это можно объяснить? Какой же это проект? Это сразу отшатнуло населения от Временного правительство, ибо люди ждали сдвигов в социальных отношениях, сразу с появлением Временного правительства.
Уже 3 марта 1917 г. Валерий Брюсов написал стихотворение «В мартовские дни». Там сказано:
Приветствую Свободу… Свершился приговор…
Но знаю, не окончен веков упорный спор,
И где-то близко рыщет, прикрыв зрачки, Раздор.
Подавляющее большинство населения ждало, что революция наконец-то разрешит «веков упорный спор», от раздора невмоготу. Для этого требовался общественный договор — о социальных правах и политических. Объявив, что Февральская революция — исключительно политическая, Временное правительство сразу потеряло социальную базу.
В.М. Чернов в своих воспоминаниях позже пишет о кадетах, меньшевиках и эсерах, собравшихся в коалиционном Временном правительстве: «Над всеми над ними тяготела, часто обеспложивая их работу, одна старая и, на мой взгляд, устаревшая догма. Она гласила, что русская революция обречена быть революцией чисто буржуазной и что всякая попытка выйти за эти естественные и неизбежные рамки будет вредной авантюрой… Соглашались на все, только бы не переобременить плеч трудовой социалистической демократии противоестественной ответственностью за власть, которой догма велит оставаться чужой, буржуазной».
С.В. Тютюкин писал так: «Идеалом кадетской интеллигенции была западная демократия и сублимированный, облагороженный, по выражению Ленина, буржуазный строй, очищенный от всех пережитков средневековья и превосходящий своей свободой и правопорядком самые смелые мечты русских капиталистов. В итоге своеобразной визитной карточкой кадетов стал интегральный европеизм и ориентация на западную политическую культуру».
Такой евроцентризм заведомо привел проект Февральской революции к фундаментальным провалам, ее вожди опирались на опыт буржуазных европейских революций, в то время как массивные общности российского населения имели ряд мировоззренческих представлений принципиально отличных от европейских, картины мира Запада и России быстро расходились после раскола христианства на православие и католицизм, и еще быстрее, после Реформации. Прогноз вождей Февраля ход политического процесса был ошибочным по ряду главных пунктов. Первый пункт — поразительное непонимание рациональности, ценностей и образа будущего подавляющего большинства населения России и, прежде всего, русского народа — конкретно, в первой трети ХХ века.
В частности, Временное правительство ошибалось в представлении отношений населения с новой властью. Ближайший соратник Керенского и очень влиятельный деятель революции В.Б. Станкевич писал (1920 г., Берлин) о Феврале: «Масса… вообще никем не руководится, она живет своими законами и ощущениями, которые не укладываются ни в одну идеологию, ни в одну организацию, которые вообще против всякой идеологии и организации…
С каким лозунгом вышли солдаты? Они шли, повинуясь какому-то тайному голосу, и с видимом равнодушием и холодностью позволили потом навешивать на себя всевозможные лозунги… Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт, а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений. Неизвестное, таинственное и иррациональное, коренящееся в скованном виде в народных глубинах, вдруг засверкало штыками, загремело выстрелами, заволновалось серыми толпами на улицах». 86
А с самого начала во Временном правительстве сложился тандем: кадеты-интеллектуалы были носителями идеалов западной демократии и буржуазного строя, а предприниматели были люди дела и действия, причем они дистанцировались от прежнего поколения русских предпринимателей. Они отвергали устаревшую монархию и патерналистские отношения «хозяина» и «работника».
В.П. Рябушинский говорил, что на рубеже ХIХ-ХХ вв. в России появился феномен «кающегося купца», испытывавшего раздвоенность души: «Старый идеал “благочестивого богача” кажется наивным: быть богачом неблагочестивым, сухим, жестким, как учит Запад — душа не принимает». Вместе с тем в России возник тип «западного» капиталиста, чуждого внутренней рефлексии: «Его не мучает вопрос, почему я богат, для чего я богат? Богат — и дело с концом, мое счастье (а для защиты от недовольных есть полиция и войска)» 87.
Лидером «молодых» московских капиталистов был П.П. Рябушинский. Эта группа имела большие политические амбиции. Их проект был ясен, П.П. Рябушинский его сформулировал так: «Нам, очевидно, не миновать того пути, каким шел Запад, может быть, с небольшими уклонениями. Несомненно одно, что в недалеком будущем выступит и возьмет в руки руководство государственной жизнью состоятельно-деятельный класс населения».
Лидер октябристов (правых) Гучков тоже изложил свои убеждения: «Я никогда не разделял взглядов старых славянофилов и не разделяю взглядов современных социалистов, которые ждали и ждут от России какого-то спасительного слова, какого-то откровения миру. Я думал, что и мы пойдем обычным путем экономического, политического и социального развития, как это делается в других странах» (см. там же).
Меньшевики приняли этот проект (скрепя сердце) 88— ничего не поделаешь, Маркс дал им завет! Эсеры присоединились за компанию (левые эсеры потом вышли из партии). В истории революций такой отрыв авангарда революционеров от подавляющего большинства активированного народа не имеет прецедента. Уравнительность, особенно свойственная «крестьянскому коммунизму», была ядром мировоззрения общинного крестьянства и рабочих, связанных сильной механической солидарностью. Но именно эта уравнительность рассматривалась Марксом едва ли не как главное препятствие на пути исторического прогресса. Эта изощренная марксистская конструкция и была основой позитивного проекта коалиции кадетов, меньшевиков, эсеров и октябристов в 1916-1917 гг. Они считали, что этот проект будет реализован, если удастся свергнуть монархию и распустить империю. Это странно!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: