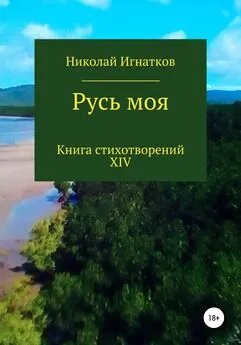Елена Рыдзевская - Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв.
- Название:Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Рыдзевская - Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. краткое содержание
Уважение к трудам наставников — черта, органически присущая советской науке. Творческое наследие Е. А. Рыдзевской особенно драгоценно, ибо относится к той области науки, которая настоятельно требует глубокой разработки. Это наследие состоит из двух частей — переводы текстов скандинавских источников и научные статьи, которые тесно взаимосвязаны и служат разъяснению русско-скандинавских отношений IX–XIV вв., критическому пересмотру догм вульгарного норманизма.
Труды Е. А. Рыдзевской нужны всем, кто исследует внешнюю политику Древней Руси, ее международные и культурные связи, кто интересуется древнейшими источниками по истории нашей страны.
Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мотив Олегова щита на воротах Царьграда подробно рассмотрен мною в статье «Датская Хуно-сага и эпизод из древнерусской летописи», где указаны параллели в исландской саге о норвежском конунге X в. Олаве, сыне Трюггви, у которого в молодости были связи с Русью, и в датской легенде о богатыре Нuno по записи XVII в. [416]Статья эта написана мною до появления в печати работы И. И. Мещанинова «Халдовы ворота» [417], которая лишь упомянута мною в статье о царьградском походе 907 г. Коснусь здесь ее несколько подробнее. Мещанинов пишет, что, согласно тексту одной надписи, халдский завоеватель VIII в. до н. э. прибивает щиты к воротам, посвященным богу Халду. Отголосок этого обряда — русское летописное сказание о щите Олега. Глосса летописца, «показуя победу», указывает на то, что ему было уже непонятно культовое содержание этого действия. Возможно, что народное предание приписало Олегу еще сохранившийся в памяти обычай, являющийся следом халдско-скифских пережитков у восточных славян [418]. Таким образом, через Халдовы ворота перед нами открывается широкая культурно-историческая перспектива, позволяющая с полной уверенностью говорить о глубокой древности этого мотива, приуроченного к Олегу, и о русском происхождении аналогичных скандинавских преданий.
Еще несколько замечаний по поводу упоминания летописи о св. Димитрии. Само собой разумеется, что возводить это место к устному варяжскому преданию, возникшему в X в., было бы совершенно фантастично: если христианство в это время и начало распространяться среди киевских и византийских варягов, то, во всяком случае, недостаточно для того, чтобы можно было считать их передатчиками легенд, в которых выступают греческие святые [419]. Но вспомнить о византийских варягах в связи с упоминанием о Димитрии приходится по следующему поводу. У Кедрина есть рассказ об осаде Салоник болгарами в 1040 г., согласно которому Димитрий помогает грекам и спасает город. В защите Салоник, по весьма правдоподобному предположению В. Г. Васильевского [420], принимал участие, наряду с другими наемными варягами, знаменитый Харальд Хардрада, впоследствии конунг Норвегии (ум. в 1066 г.). В сагах о Харальде и его старшем брате, конунге Олаве Святом (ум. в 1030 г.), есть весьма близкие к Кедрину рассказы, но в них Димитрий уже заменен норвежским святым — Олавом, который чудесным образом является на белом коне и помогает византийским варягам одержать победу [421].
Этот легендарный эпизод входит в состав древнейшей редакции саги об Олаве Святом, составленной в 60–80-х годах XII в. и сохранившейся в отрывках, и норвежского гомилиария конца XII или начала XIII в.: Васильевский знал несколько более поздние тексты. В XII–XIII вв. всякого рода святые, иноземные и местные, уже входят в обращение в скандинавских легендах, но отражение салоникской легенды в сагах никакого прямого отношения к летописному упоминанию о Димитрии не имеет. Дело тут не только в эпохе, но и в диаметрально противоположном смысле обоих рассказов: по летописи предполагается грозное появление святого как орудия божьего гнева, а по салоникской легенде он — помощник и спаситель осажденного города. По мнению Шахматова, вставка о Димитрии сделана в летописи (еще в Древнейшем Киевском своде) под влиянием болгарского источника [422], что и является наиболее вероятным.
Летописное предание о смерти вещего Олега в Повести временных лет под 912 г. и близкий к нему рассказ исландской саги об Орвар-Одде — одна из скандинавско-русских параллелей, более всего обращавших на себя внимание ученых с тех пор, как был вообще привлечен к исследованию литературный материал, имеющий отношение к варяжскому вопросу.
По Шахматову, в наших древнейших летописях есть три версии о смерти Олега. В Повести временных лет по Лаврентьевскому списку он умирает от укуса змеи, выползшей из черепа его коня, от которого волхвы предсказывали ему гибель. Это происходит где-то близ Киева; Олег похоронен на горе Щековице. По Новгородской I летописи: «иде Олегъ к Новугороду и оттуда в Ладогу. Друзии же сказають, яко идущу ему за море и уклюну змиа в ногу, и с того умре; есть могыла его в Ладозе». Шахматов видит в этом тексте Новгородской I летописи два источника и полагает, что в Древнейшем Киевском своде читалось: «иде Олегъ к Новугороду и оттуда за море и уклюну змиа въ ногу и съ того умре», а в Новгородском своде XI в.: «иде Олегъ къ Новугороду и оттуда въ Ладогу и тамо умре, есть могыла его в Ладозе». Приурочение смерти Олега к Киеву и связь ее с возвращением его из царьградского похода принадлежит составителю Повести временных лет [423].
Необходимо отметить, что восстановленный Шахматовым для Древнейшего Киевского свода текст предания о смерти Олега, так же как и использованный им для этого текст Новгородской I летописи, дает лишь фрагмент той легенды, которая читается в Повести временных лет, лишь окончание ее (смерть от укуса змеи); ни волхвов с их предсказанием, ни коня здесь нет. В полном и законченном виде эту легенду знает лишь Повесть временных лет. В Начальном своде, по реконструкции Шахматова, читалось то же, что и в Новгородской I летописи [424].
Принимая два варианта, восстанавливаемые Шахматовым по тексту Новгородской I летописи, как зафиксированные в более ранних сводах, чем Повесть временных лет, можно тем не менее допустить, что в устной передаче все три версии существовали одновременно.
По саге, ее герою, норвежцу Одду, вещунья предсказывает смерть от змеи, которая выползет из черепа его собственного коня, по имени Факси. Одд убивает коня, но по истечении многих лет, после всяких похождений и подвигов в дальних странах, он, уже будучи стариком, вместе со своими товарищами посещает те места, где жил в молодости; при этом он уверен, что пророчество о его смерти у себя на родине не сбудется. Он спотыкается о конский череп и ударяет по нему копьем; из черепа выползает змея, от укуса которой Одд и умирает.
Издатель и исследователь саги об Орвар-Одде Р. Бур справедливо отмечает несообразность в этом месте саги, указывающую на сравнительно позднюю форму, в которой оно дошло до нас: убив коня, Одд считает себя в безопасности, между тем как вещунья предсказала ему смерть от змеи, скрывающейся в черепе коня; следовательно, для устранения опасности убить коня было еще недостаточно. По мнению Бура, русское летописное предание точнее передает это сказание в его более первоначальном виде [425].
В тексте саги есть некоторые указания на приспособление его к песне вещуньи, в которой и содержится пророчество, — Одд заваливает тяжелыми камнями яму, где зарыт конь, а по пространной редакции саги, спутники Одда говорят ему, когда он спотыкается о череп: «А как ты думаешь — не Факси ли это череп?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:







![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/1125950/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-polo-kto-takie-italyanskie-etruski-drevnij-egipet-skandinaviya-ru.webp)