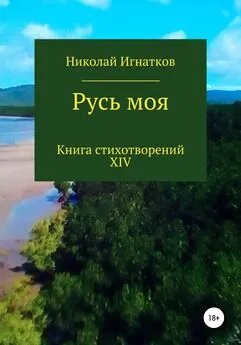Елена Рыдзевская - Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв.
- Название:Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Рыдзевская - Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. краткое содержание
Уважение к трудам наставников — черта, органически присущая советской науке. Творческое наследие Е. А. Рыдзевской особенно драгоценно, ибо относится к той области науки, которая настоятельно требует глубокой разработки. Это наследие состоит из двух частей — переводы текстов скандинавских источников и научные статьи, которые тесно взаимосвязаны и служат разъяснению русско-скандинавских отношений IX–XIV вв., критическому пересмотру догм вульгарного норманизма.
Труды Е. А. Рыдзевской нужны всем, кто исследует внешнюю политику Древней Руси, ее международные и культурные связи, кто интересуется древнейшими источниками по истории нашей страны.
Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сближение преданий об Олеге и Одде прежде всего подтверждается, казалось бы, тем, что сага об Одде имеет восточную ориентацию — поход героя в Грецию, в Хуналанд, который в древнескандинавской литературе представляется какой-то восточноевропейской территорией, близкой к Гардарики, т. е. к Руси, в Бьялкаланд, под которым, как полагает Бур, скрывается также нечто русское [437]. Но насколько достоверна и первоначальна эта восточная ориентация саги? Предполагаемая Буром локализация Бьялкаланда на Руси остается довольно таткой гипотезой независимо от того, что поход в этот край, как думает Бур, приписывался Одду сравнительно очень рано. Хуналанд, куда едет Одд по древнейшему списку саги, в некоторых других списках заменен на «Гардарики», но тем не менее сам он не таков, чтобы его можно было принимать за конкретное указание на Русь; историческая сага не стала бы пользоваться этим названием как географическим термином. Поездку Одда в Грецию знает еще краткая редакция саги, но и в ней, судя по предисловию Бура к ее изданию [438], этот эпизод относится уже к числу поздних добавлений. В распространенной редакции подвиги и приключения Одда в той же Греции, а также в Гардарики представляют собою как нельзя более явные вставки, в которых очень характерно соединяются поздняя приключенческая романтика и домыслы книжной учености [439]. Указанная выше статья А. И. Лященко не дает никакого представления о весьма сложном и далеко не единообразном составе и генезисе саги; этот автор совершенно некритически пользовался данными обеих ее редакций для отождествления Олега с Оддом — отождествления, весьма рискованного уже хотя бы потому, что Одд является лицом более чем наполовину не историческим, а Олег — несомненно историческим, несмотря на неясности и противоречия в дошедших до нас летописных известиях о нем и на те легенды, которые связаны в них с его именем.
Таким образом, именно Rossica саги об Одде — наиболее слабое основание для сближения преданий об Олеге и Одде. Не следует забывать, что сага об Орвар-Одде — одна из тех романтических саг второй половины XIII в. [440], которые охотно переносили приключения своих героев в Восточную Европу, уже являющуюся в это время (и особенно в XIV в.) для Исландии и исландских авторов «землей незнаемой», и пользовались восточноевропейской географической номенклатурой, уже утратившей для них конкретное значение. Возможно, что и восточную ориентацию саги об Одде следует в большей мере относить за счет этой литературной моды, чем подлинного древнего предания, восходящего к эпохе викингов.
Значительно более веским является то, что Новгородская I летопись под 922 г. сохранила следы какой-то версии о смерти Олега за морем от укуса змеи. Эта версия, восстановленная Шахматовым для Древнейшего Киевского свода, действительно сближает предание о конце жизни Олега с возвращением Одда на родину и его смерти там от укуса змеи. Вся деятельность на Руси, особенно заключенный от его имени договор 911 г., говорит в пользу того, что он, даже если и был норманном (а это, как уже было сказано, очень вероятно), обосновался на Руси довольно прочно и отъезд его представляется несколько неожиданным. Именно в этом моменте, более чем где бы то ни было, можно, как мне представляется, видеть следы спайки между преданием об Одде и летописной легендой об Олеге и воздействие первого на вторую. У нас, таким образом, получается два варианта сказания о смерти Олега: один — предполагаемый Шахматовым на основании текста Новгородской I летописи, близкой к преданию об Одде, но представленный лишь фрагментом; другой — в Повести временных лет под 912 г., где он уже имеет вид местного, русского, предания; от ухода Олега за море здесь уже не осталось и следа. Этот вариант изложен целиком (пророчество о смерти и т. д.). По своему типичному сюжету он является двойником преданий о смерти Одда в том первоначальном виде, в котором это последнее известно нам не столько по саге, сколько по фольклорным источникам. Намечается, следовательно, некоторая эволюция от скандинавского (норвежского) предания к русскому, носителями которого были уже не одни варяги.
Со стороны фольклора в той разновидности основного сюжета, где роковую роль играет конь (Олег, Одд и некоторые другие), обращает на себя внимание следующее. Конская голова по верованиям многих народов имеет магическое значение как предмет защитный, благоприятный, приносящий счастье. Здесь же она, наоборот, приносит смерть владельцу коня. Причиной гибели является, таким образом, предмет, обладающий благотворной магической силой, но обращенный на этот раз против своего же владельца. Это напоминает известные нам у Саксона примеры смерти его героев от собственного меча; она постигает владельца меча как наказание, как месть за совершенное им убийство [441]. Далее, проклятие в «Эдде», обрекающее проклинаемого по той же причине на смерть от собственного меча [442]. И, наконец, неоднократно встречающаяся в греко-русских договорах X в. формула, касающаяся возможности нарушения клятвы, как, например, в договоре 944 г.: «да посечени будуть мечи своими». Эта формула построена по весьма распространенному типу условного проклятия самого себя [443].
Смерть от своего коня не лучше смерти от своего меча. Это наводит на мысль о том, не содержит ли в себе пророчество такой смерти элемент проклятия? В отношении Орвар-Одда это возможно. Дело в том, что по тексту саги Одд встретился с вещуньей на пиру в доме, куда она была приглашена в качестве почетной гостьи и где все присутствующие по очереди с большим почтением выслушивали ее предсказания. Только Одд обошелся с нею крайне невежливо, относясь с полным пренебрежением к ее пророчествам. Разгневанная вещунья в ответ на это и преподнесла ему в поэтической форме песни предсказание смерти от змеи, которая выползет из черепа его собственного коня. Как уже было сказано выше, первоначально речь шла, вероятно, о смерти от коня, без предупреждения о змее, по типу недосказанного пророчества (своего рода reservatio mentalis ).
Тиандер, разумеется, сильно преувеличивал, утверждая, что для Одда «предсказание колдуньи стало проклятием его жизни, не дававшим ему покоя; он вынужден был изъездить моря и земли» [444]. Одд — не Агасвер, осужденный на вечные скитания, а викинг, для которого «изъездить моря и земли» — дело, как нельзя более естественное и заманчивое. Из текста саги нигде не видно, чтобы предсказание вещуньи в течение всех последующих лет хоть сколько-нибудь отравляло ему жизнь. Тем не менее в том, что писал Тиандер, может быть, есть доля правды.
В одном из более поздних английских вариантов того же мотива, в обстановке рыцарского средневековья, вещая женщина предсказывает одному рыцарю, из-за которого погибла ее дочь, смерть от его собственного боевого коня. Через много лет, по возвращении из крестового похода, рыцарь, позаботившийся своевременно о том, чтобы убить коня, поранил себе ногу об его кость и умер от этой раны [445].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:







![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/1125950/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-polo-kto-takie-italyanskie-etruski-drevnij-egipet-skandinaviya-ru.webp)