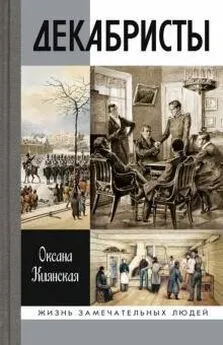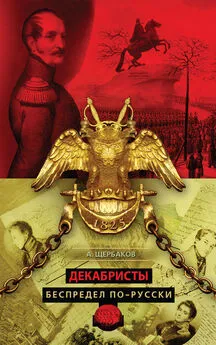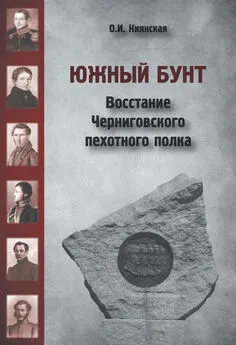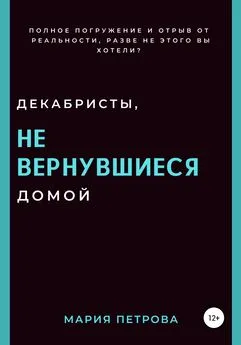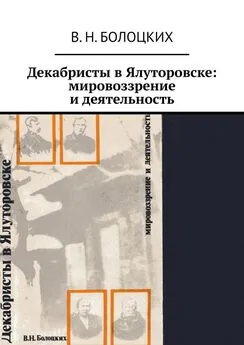Оксана Киянская - Декабристы
- Название:Декабристы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- ISBN:978-5-235-03803-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оксана Киянская - Декабристы краткое содержание
В поле зрения доктора исторических наук Оксаны Киянской попали и руководители тайных обществ, и малоизвестные участники заговора. Почему диктатор Трубецкой не вышел на площадь? За что был казнен Рылеев, не принимавший участия в восстании? Книга, основанная на опубликованных документах и архивных материалах, восстанавливает реальную историю антиправительственного заговора, показывает связь его участников с общественным мнением, создает свободный от идеологических штампов коллективный портрет деятелей декабристского движения.
Декабристы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это позволило Пестелю сосредоточить в своих руках огромную власть — фактически над всей армией. «По способностям своим» ротмистр «скоро начинал получать явный перевес мнениями своими не только в главной квартире, но и в армии», — утверждал на следствии хорошо осведомленный в штабных делах полковник Н. И. Комаров (до 1821 года — член Тульчинской управы Союза благоденствия) и конкретизировал: «Во время отъездов на смотры войск, сопутствуя графу, имел случай скоро ознакомиться в армии и составить связи потом; имея при том и по занятию своему в составлении отчетов и записок об успехах в полках по фронтовой части значительное влияние на полковых и батальонных командиров, он умел в свою пользу извлекать из всего выгоды для достижения преднамеренной цели в распространении своего образа мыслей» {106} .
Тот же Комаров утверждал, что «Витгенштейнов адъютант» совершенно подмял под себя начальника штаба армии Рудзевича и «тем еще более умножал вес свой в армии». По словам же сменившего Рудзевича Киселева, его «предместник» находился у Пестеля «в точном подданстве» {107} . В 1819 году, когда Рудзевич был смещен и назначен командиром 7-го пехотного корпуса, он всё равно пытался искать у Пестеля дружбы и покровительства.
Рудзевич, как говорилось выше, был сильно замешан в «дело Жуковского». Его карьера в 1819–1825 годах постоянно висела на волоске, и обстоятельства вынудили его обратиться за помощью к адъютанту командующего.
Будучи одним из следователей по «делу Жуковского», Пестель выполнял эти обязанности «хотя с излишнею злостию, но всегда с умом»; по просьбе Витгенштейна он составил специальный доклад для передачи императору {108} . Естественно, ему была вполне ясна вся неоднозначность положения смещенного начальника штаба. В своих письмах Рудзевичу (к сожалению, до нас не дошедших) он подробно расспрашивал адресата о его роли в коррупции и, очевидно, требовал чистосердечного рассказа о том, что происходило в штабе до приезда Витгенштейна {109} . Скорее всего, в ответ на откровенность генералу было обещано заступничество перед командующим.
Рудзевич отвечал пространными письмами, из которых видна его кровная заинтересованность в дружбе с адъютантом Витгенштейна. Пестель был единственным человеком, способным уверить нового командующего в «безграничной преданности» Рудзевича, «по доброй его душе, отличным качествам и достоинству». Адъютант мог также объяснить своему патрону, что все обвинения против бывшего начальника штаба вызваны лишь «интригами и злобой», а виноват во всём «жук говенной» — бывший генерал-интендант Жуковский {110} .
Рудзевич писал: «Мерзавцам, алчным во всех отношениях к корыстолюбию (имелись в виду коррупционеры при штабе Беннигсена. — О. К.), могли честный человек им нравиться — конечно нет! Я был бич для них лично одною персоною моею; но не властью начальника] Плавного] штаба. — Они меня боялись, это правда — но и делали, что хотели, и я остановить действия их зловредные не мог… Вот в каком положении я находился, любезный Павел Иванович, — всё знал, всё видел, что делается, но не имел власти или, лучше сказать, не хотел компрометировать ту власть, которой с полною доверенностию вверяется благосостояние даже и целого государства. — Винили меня, и, может быть, и теперь еще находят меня виноватым царедворцы царя… почему я не доносил о злоупотреблениях, какие происходили у нас. — Скажите, можно ли было требовать от меня быть Гильковичем и можно ли, чтобы я был в том чине доносчиком наравне с жидом. — Вот за что я терпел, а может быть, и теперь еще обращаю на себя гнев монарший, несмотря на то, что дали мне корпус» {111} .
Этому и другим подобным признаниям Пестель ходу не дал, но письма Рудзевича хранил тщательно, не уничтожив даже перед арестом. Ясно, что он, до самого конца просчитывавший возможности вооруженного выступления, всерьез рассчитывал на помощь или по крайней мере нейтралитет своего корпусного командира. Письма же эти могли стать страшным оружием против генерала — в том, конечно, случае, если бы Рудзевич попытался чем-то помешать заговорщикам.
Летом 1819 года, после приезда Киселева на новое место службы, власть некогда всесильного «графского адъютанта» в армейском штабе была резко ограничена. И это, конечно, было для заговорщиков чувствительным ударом. Однако от этого удара они быстро оправились: в декабре того же года генерал-интендантом стал Юшневский.
Казалось бы, в связи с этим назначением перед заговорщиками открылись головокружительные финансовые возможности. Юшневский, получивший право распоряжаться деньгами армейского бюджета, мог, подобно предшественникам, понимать это право «расширительно», что давало возможность тратить казенные деньги на нужды организации.
Подтверждение этому найти нетрудно: в 1828 году, через два года после ареста и осуждения Юшневского, на него был наложен огромный начет по интендантству. Согласно справке, составленной Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, «по требованию Временного счетного отделения интендантства 2-й армии здешнее губернское правление (губернское правление Подольской губернии. — О, К.) предположило взыскать с селения Хрустовой 326 018 руб. 49 ½ коп., обращенных на ответственность бывшего генерал-интенданта Алексея Юшневского». Был наложен запрет на любые операции с имением бывшего интенданта — деревней Хрустовой, которой он с братьями владел после смерти отца до своего осуждения {112} .
Декабрист Андрей Розен, отбывавший каторгу вместе с Юшневским, рассказал в мемуарах, что разбирательство по интендантским делам «огорчало Юшневского в тюрьме потому, что если бы комиссия при ревизии обвинила его в чем-нибудь, то он был бы лишен возможности оправдаться». Но он же описал «радость и восторг старца, когда, по прошествии 8 лет, прислали ему копию с донесения комиссии высшему начальству, в коей было сказано, что бывший генерал-интендант 2-й армии А. П. Юшневский не только не причинял ущерба казне, но, напротив того, благоразумными и своевременными мерами доставил казне значительные выгоды». «Такое донесение делает честь не только почтенному товарищу, но и председателю названной комиссии генералу Николаю Николаевичу Муравьеву, правдивому и честному, впоследствии заслужившему народное прозвание Карский», — добавил Розен {113} .
Мемуарист неточен в деталях: вряд ли комиссия, проверявшая Юшневского, могла найти, что его интендантскую деятельность характеризуют «благоразумные и своевременные меры». Он вовсе не был образцовым интендантом, делал ошибки, получал выговоры от начальства и даже от императора.
Кроме того, генерал-лейтенант Н. Н. Муравьев-Карский никакого отношения к «делу Юшневского» не имел. Он не руководил «временным счетным отделением интендантства 2-й армии» — в его ведении была другая комиссия, «учрежденная для окончания дел и счетов интендантств бывших 1 — й и 2-й армий». Комиссию эту создали в начале 1830-х годов, когда император Николай I приступил к структурному реформированию Вооруженных сил России. В ее задачу входила, в частности, проверка счетов интендантства 2-й армии начиная с Русско-турецкой войны 1828–1829 годов, и «делом Юшневского» она не занималась. В 1838 году Муравьев-Карский вообще ушел в отставку {114} .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: