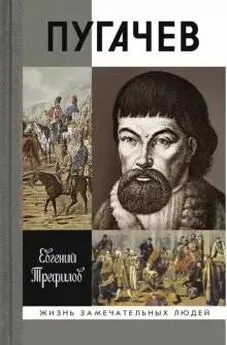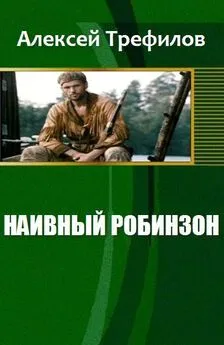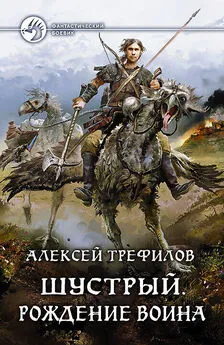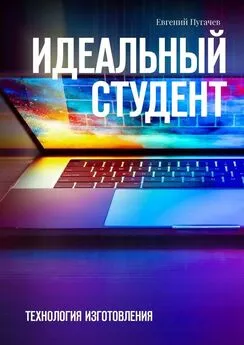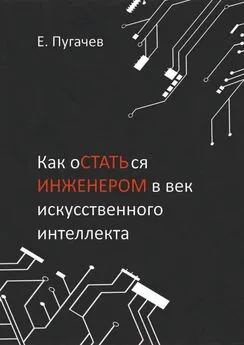Евгений Трефилов - Пугачев
- Название:Пугачев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03796-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Трефилов - Пугачев краткое содержание
Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.
Пугачев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дворян в повстанческом войске можно было встретить на протяжении всего восстания, в том числе и на последнем этапе, когда представителям привилегированных слоев в местах, находившихся под контролем бунтовщиков, приходилось особенно несладко. Некоторые дворяне становились даже командирами повстанческих отрядов или воеводами в городах, захваченных Пугачевым, а пленный подпоручик Михаил Шванвич, как мы помним, мало того что стал атаманом, был еще секретарем и переводчиком в повстанческой «Военной коллегии». Как правило, «Петр Федорович» оставлял в своем войске тех помещиков и офицеров, которые не просто соглашались служить «третьему императору», а были «одобрены» их крестьянами и солдатами. Такой «взвешенный сословный подход», по мнению исследователя В. Я. Мауля, был обусловлен еще и тем, что поголовное истребление дворян было бы нежелательным с точки зрения государственных интересов. Действительно, у Пугачева была возможность убедиться в том, что дворяне, умеющие писать не только по-русски, но и на иностранных языках, могут быть весьма полезны. А как без них обойтись, когда завоюешь всё царство? И как обойтись без генералов? Ведь «Петр Федорович», «учредив всё порядочно» внутри страны, собирался идти «воевать в иные государства» [641] См.: Пугачевщина. Т. 2. С. 135; Крестьянская война в России в 1773–1775 гг. Т. 3. С. 339–347; Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. С. 45–49; Мауль В. Я. Архетипы русского бунта XVIII столетия. С. 137.
.
При этом, правда, нужно иметь в виду, что реальный Емельян Пугачев, в отличие от мифического «Петра Федоровича», в успех восстания, по всей видимости, не верил, а потому едва ли всерьез задумывался о будущем Российской империи. Генералов в его в войске не было, да и более или менее образованных дворян, кажется, было раз-два и обчелся. Это и неудивительно, ведь в повстанческих отрядах, как правило, находились мелкопоместные обедневшие дворяне. Возможно, именно бедность и необразованность сближали их с повстанцами. Например, князь О. Ф. Енгалычев, несмотря на звучный титул, вовсе не имел крепостных, а потому самолично занимался хлебопашеством. Поэтому совершенно неудивительно, что он активно участвовал в восстании и командовал небольшим отрядом бунтовщиков. Не случайно попал к Пугачеву, а впоследствии стал его полковником дворянин И. С. Аристов, имевший деревню и шесть крестьянских душ в Костромской провинции: он за незаконное винокурение был определен в солдаты, бежал с военной службы и вроде бы даже успел поработать на заводе в Екатеринбурге. В любом случае Аристов был не слишком далек от народа, раз, приходя в деревни, вешал тех «начальников», на которых ему жаловались крестьяне [642] См.: Пугачевщина. Т. 2. С. 356–360; Крестьянская война в России в 1773–1775 гг. Т. 3. С. 341, 342.
.
Если с дворянами в своем «царстве» «Петр Федорович» и его сторонники в той или иной мере готовы были мириться, то участь Екатерины II в случае победы восстания представляется незавидной. Историки собрали немало материала, свидетельствующего: простые люди были весьма недовольны женщинами на троне, полагая, что «глупая баба» неспособна выполнять важные государственные обязанности. Недовольство Екатериной усугублялось еще и тем, что она свергла столь почитаемого в народе «Петра III». Не только за «собственные» обиды, но и за нанесенные народу собирался отомстить «злодейке-жене» «чудесно спасшийся» «амператор». Он намеревался отправить государыню в монастырь, а то и вовсе, со слов его второй жены Устиньи Кузнецовой, самолично отрубить ей голову. Позволяли себе выпады в адрес императрицы и пугачевские командиры, и рядовые бунтовщики.
Однако и здесь не всё однозначно. Отнюдь не все представители социальных низов были враждебно настроены к императрицам. Например, участники бунта на Яике 1772 года, несомненно, надеялись на Екатерину II. Некоторые яицкие казаки продолжали относиться к государыне положительно накануне и, возможно, даже во время пугачевщины. Интересно, что наказание, предусмотренное самозванцем для царицы, было более мягким, нежели то, что грозило «боярам», свергнувшим Петра III с престола. Да и едва ли Екатерина была главным врагом для самих повстанцев и потенциальных сторонников «третьего императора». Об этом, помимо прочего, свидетельствует тот факт, что в пугачевских указах и манифестах, как правило, учитывавших чаяния различных социальных и национальных групп, к которым они были обращены, вовсе отсутствуют выпады в адрес императрицы [643] См.: Трефилов Е. И. Еще раз о «бабах» на русском престоле, или Несколько слов о том, как пугачевцы относились к Екатерине II // Гишто-рии российские, или Опыты и разыскания к юбилею Александра Борисовича Каменского: Сборник статей / Сост. Е. В. Акельев, В. Е. Борисов; отв. ред. Е. Б. Смилянская. М., 2014. С. 144–160.
.
Из всего вышесказанного вполне ясно, что, если бы восстание победило, жителей России ожидали бы большие перемены. Современный историк В. Я. Мауль полагает, что восстание было направлено против модернизации, активно проводившейся в стране в XVIII веке; следовательно, после его победы историческое развитие России пошло бы вспять. По мнению исследователя, «порядки, создаваемые в процессе модернизации, воспринимались социальными низами как утверждение “перевернутого” мира, торжество “кромешных” (то есть адских, бесовских. — Е. Т.) сил», поэтому «пугачевцы пытались всем своим действиям придать противоположную смысловую нагрузку, стремились к возрождению подлинно “святой Руси”». Если «самозванка» Екатерина указом от 22 августа 1767 года запретила крестьянам подавать челобитные на своих господ, то «законный царь Петр Федорович» не только принимал жалобы крестьян и казаков на их притеснителей, но и казнил последних, и вообще упразднил крепостное право. Историк приводит и другие примеры, свидетельствующие, по его мнению, о борьбе «двух противоположностей»: если у царицы человека считали преступником, то у Пугачева — праведником и мучеником; там дворяне могли не служить — здесь служба для них была обязательна, а их место во властной иерархии должны были занять казаки; там «просвещенный абсолютизм» — здесь «абсолютизм непросвещенный», причем доведенный до крайней формы выражения; там непомерные подати — здесь их нет вовсе [644] См.: Мауль В. Я. Архетипы русского бунта XVIII столетия. С. ИО-ИЗ.
.
Однако отношение и к Екатерине, и к податям не было столь однозначным, как и к некоторым элементам культуры, сложившимся в результате модернизации и европеизации страны. С одной стороны, ученые люди могли вызывать у малограмотных, а чаще и вовсе не грамотных казаков и мужиков неприязнь и подозрение. Иван Почиталин говорил о своем предводителе: «Пугачев жестоко просвященных отличным разумом людей подозревал». С другой стороны, бунтовщики понимали, что такие люди им необходимы. Вспомним Шванвича, чье знание иностранных языков пригодилось «государю», а также повытчикам пугачевской «Военной коллегии», которые попросили пленного офицера «написать им французскую азбуку». Судья той же коллегии Иван Творогов спросил у Василия Горского, не знает ли он немецкого языка или каких-нибудь других наук [645] См.: Трефилов Е. Н. Элементы традиционного и нового в мышлении простолюдина XVIII в. (по материалам пугачевского бунта) // Человек в культуре русского барокко. М., 2007. С. 519–530.
.
Интервал:
Закладка: