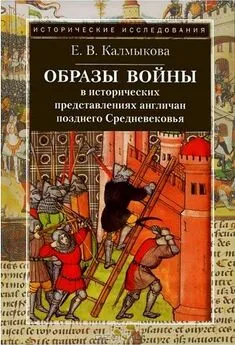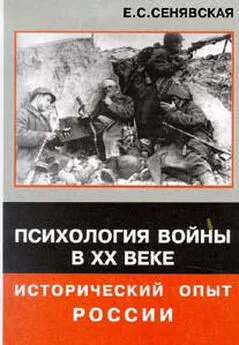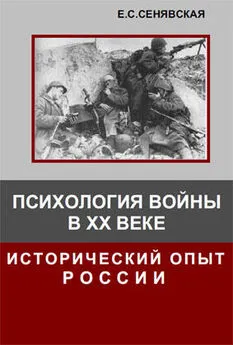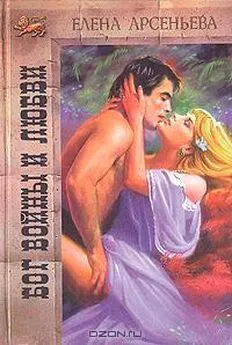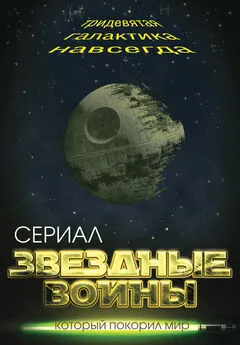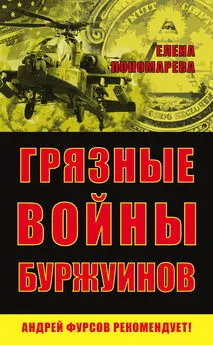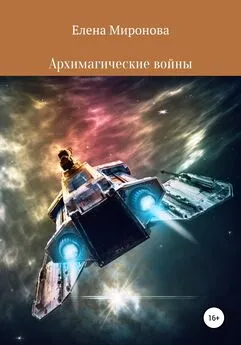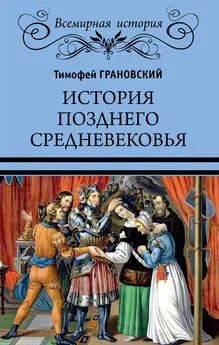Елена Калмыкова - Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья
- Название:Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Квадрига
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91791-012-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Калмыкова - Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья краткое содержание
Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Августин не только сохранил санкцию законной власти в качестве непременного условия справедливой войны, но и адаптировал эту идею к христианской морали. Христианин не может воздавать насилием за насилие в частном конфликте, то есть убить нападающего на него в целях самообороны (теолог подчеркивает, что, даже если такое убийство разрешено светским законодательством, оно все равно осуждается Церковью), ибо это повлечет ненависть и утрату христианской любви. [22] Augustine . Contra faustum manichaeum, XXII, 70. Подробнее о взглядах Августина на жестокость см.: Hartigan R. Saint Augustine on War and Killing // Journal of the History of Ideas. Vol. XXVII (1966). P. 196–201.
Но воин, действующий по приказу наделенного законной властью лица, выполняет функцию «minister legis», [23] Augustine . De libero arbitrio, I, 5, 12.
поэтому он неповинен в грехе человекоубийства. [24] Августин Блаженный. О граде Божием / Сост. и подг. текста С. И. Еремеев // Августин Блаженный. Творения: В 4 т. СПб.; Киев, 1998–2000. Т. 3: I, XXI, 26: «Впрочем, тот же самый божественный авторитет допускает некоторые исключения из запрета убивать человека. Но это относится к тем случаям, когда повелевает убивать сам Бог, или через закон, или же особым относительно того или иного лица распоряжением. В этом случае не тот убивает, кто обязан служить повелевшему, как и меч служит орудием тому, кто им пользуется. И поэтому заповедь «не убивай» не преступают те, которые ведут войны по повелению Божию или, будучи в силу Его законов, то есть в силу самого разумного и правосудного распоряжения, представителями общественной власти, наказывают злодеев смертью… Итак, за исключением тех, кому повелевает убивать или правосудный закон, или непосредственно сам Бог, источник правосудия, всякий, кто убивает себя ли самого, или кого иного, становится повинным в человекоубийстве».
Более того, сами воины могут не задумываться над справедливостью войны, в которой они участвуют: поскольку они обязаны выполнять все приказы (если только они прямо не противоречат божественным заповедям) лица, наделенного законной властью, это снимает с них вину за участие в неправедной войне. Если же государь ведет несправедливую войну, то весь грех ложится на него одного, в то время как долг повиновения делает его воинов невиновными. [25] Augustine . Confessiones, III, 8, 15; De Civitate Dei, I, 21, 26.
Последнее обстоятельство, то есть положение о беспрекословном подчинении законной власти, было особенно важно для английских теологов, обвинявших своих противников в отказе повиноваться легитимному сеньору, что делало их виновными в мятеже против Бога. С точки зрения Августина, воины, убивающие в ходе справедливой войны, невиновны даже в случайном пролитии крови невинных людей. Признавая, что последние, хотя и составляют малую часть виновного народа (подобно семье Лота в осужденном на погибель Содоме), тем не менее страдают от бедствий, которые несут с собой войны, наравне со всеми, епископ Гиппонский принимал это зло как неизбежное, подчеркивая, что невинным жертвам войны уготовано Царствие Небесное. Воины, ставшие убийцами невинных, ответственны за незаконное кровопролитие, только если были опьянены личной жаждой мести или проявили неоправданную жестокость (например, расправились с пленными или безоружными людьми). [26] Augustine. Contra faustum manichaeum, XXII, 74; De Civitate Dei, I, 9. Подробнее об этой проблеме см.: Dean H. The Political and Social Ideas of St Augustine. N. Y., 1963. P. 83, 98, 119–121; Adams J. The «Populus» in Jerome and Augustine // A Study in the Patristic Sense of Community. New Haven; L., 1971, ch. 2 and Appendix A; Russell F. H. The Just War… P. 19–20; Hartigan R. Saint Augustine… P. 195–204; Swift L. J. Augustine on War and Killing: Another View // The Harvard Theological Review. Vol. LXVI (1973). P. 369–383.
Помимо легитимации войны, которую законная власть ведет с нарушителями порядка, соблюдая при этом определенное милосердие (то есть сочетания римского ius ad bellum с тем, что впоследствии станет ius in bello ), Августин привнес в теорию «справедливой войны» третий определяющий компонент. Им стала вера в справедливое завершение каждой провозглашенной войны. Для Августина определенным образом организованное насилие должно было служить средством достижения обществом состояния подчинения божественному порядку — «война ведется для сохранения мира». [27] Augustine . Contra faustum manichaeum, XXII, 74.
Предложенная Августином трехчастная формула справедливой войны была доработана теологами и юристами классического Средневековья, среди которых важнейшее место, бесспорно, занимал Грациан, создавший около 1140 г. полный свод канонического права, озаглавленный им «Concordia Discordantium Canonum», но более известный как «Декрет». Для Грациана заповедь «возлюби врага своего» не исключала насилия над врагом, поскольку христианская любовь подразумевает искоренение греха: наказание виновного избавляет его от вины. [28] Gratian. Decretum // Corpus Juris Canonici. Vol. I. С. 23 q. 3 c. 6; q. 4 c. 32; q. 4 c. 25, 35, 44; q. 5 c. 17.
Таким образом, Грациан продолжил вслед за Августином использовать христианское милосердие в качестве мотивации для начала войны, сделав это краеугольным камнем собственного отношения к войне, воспринятого последующими знатоками канонического права. [29] Russell F. H. The Just War… P. 58–60.
Грациан усилил акцент на необходимости стремления к миру и милосердном отношении к побежденному противнику. Для него воинская доблесть сама по себе является Божьим даром, а война — лишь средством для заключения мира, поэтому воины должны быть миролюбивыми даже в сражении, ибо их цель — восстановление справедливости. [30] Gratian. Decretum // Corpus Juris Canonici. Vol. I. С. 23 q. 1 c. 3, 4, 6.
Исследовав возможные правонарушения, Грациан пришел к выводу о том, что враг может дать только три повода для войны: начать ее первым, отказаться наказывать своих подданных за совершенные ими злодеяния или не возвращать украденную собственность. Следовательно, согласно своду канонического права Грациана, существует три причины для ведения справедливой войны: защита своей земли и своих подданных от нападения врага, возвращение собственности [31] Ibid. C. 23 q. 2 c. 1: «Iustum est bellum, quod ex edicto geritur de rebus repetendis, aut propulsandorum hominum causa».
и наказание преступлений [32] Ibid. C. 23 q. 2 c. 2: «Iusta autem bella solent diffiniri, que ulciscuntur Iniurias».
(в том числе преступлений религиозного характера, направленных против Бога или Церкви). Для Грациана, как и для его предшественников, важным условием ius ad bellum (помимо стремления к миру и наличия справедливой причины) была санкция законной власти. [33] Ibid. С. 23 q. 1 с. 4; q. 2 c. 2.
Действующие по приказу Бога или законной власти освобождаются от греха человекоубийства. [34] Ibid. C. 23 q. 5 c. 47.
Следуя за Августином, Грациан подчеркивал, что повиновение плохим приказам и даже участие в войне, вызванной алчностью государя, снимает с воинов вину, которая полностью ложится на монарха. [35] Ibid. C. 23 q. 1 c. 4; q. 5 c. 25.
Только законный правитель, обладающий правом провозглашения войны, несет за нее ответственность. Во избежание недоразумений Грациан предложил следующее определение: «Справедливая война ведется по эдикту для наказания правонарушений». [36] Gratian. Decretum. C. 23 q. 2 d. p. c. 2: «Cum ergo iustum bellum sit, quod ex edicto geritur, vel quod iniuriae ulciscuntur». Подробнее см.: Russell F. H. The Just War… P. 60–68; Regout R. La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin à nos jours, d'après les théologiens et les canonistes catholiques. P., 1935. P. 61–65; Hubrecht G. La «juste guerre» dans le Décret de Gratien // Studia Gratiana. Vol. III (1955). P. 161–177
В середине XIII в. эту формулу повторил Фома Аквинский, утвердивший необходимость наличия трех составляющих элементов: санкции со стороны законной власти, справедливой причины и справедливой цели. [37] Thomas Aquinas . Summa Theologiae, 2–2, q. 40, art. I, resp. «Dicendum quod ad hoc aliquod bellum sit iustum, tria requiruntur. Primo quidem auctoritas principis cuius mandato bellum est gerendum. Non autem pertinet ad personam privatam bellum movere, quia potest ius suum in iudicio superioris prosequi. Similiter etiam convocare multitudinem, quod in bellis oportet fieri, non pertinet ad privatam personam. Cum autem cura reipublicae commissa sit principibus, ad eos pertinet rem publicam civitatis vel regni vel provinciae sibi subditae tueri. Et sicut licite defendunt eam materiali gladio contra interiores quidem perturbatores, dum malefactores puniunt [Romans 13:4]. Ita etiam gladio bellico ad eos pertinet rempublicam tueri ab exterioribus hostibus [Psalm 81:4; Augustine . Contra faustum manichaeum, 22, 75]. Secundo, requiritur causa iusta, ut scilicet illi qui impugnantur propter aliquam culpam impugnationem mereantur [Augustine Quaestiones in Heptateuchum, 6, 10]. Tertio, requiritur ut sit intentio bellantium recta, qua scilicet intenditur vel ut bonum promoveantur vel ut malum vitetur [Gratian. Decretum. C. 23 q. 1 c. 6]. Potest autem contingere ut si sit legitima auctoritas indicentis bellum et causa iusta, nihilominus propter pravam intentionem bellum reddatur illicitum» [Avgustine . Contra faustum manichaeum, 22, 74; Gratian . Decretum. C. 23 q. 1 c. 4] (цит. по: Russell F. H. The Just War… P. 268)
Интервал:
Закладка: