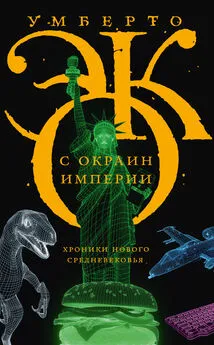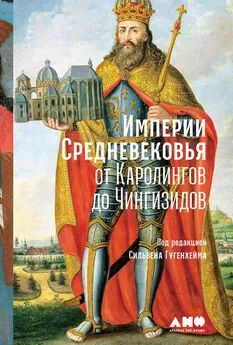Сильвен Гугенхейм - Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов
- Название:Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9437-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сильвен Гугенхейм - Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов краткое содержание
Цель настоящего сборника — охватить единым взглядом схожие между собой политические образования в рамках протяженного хронологического отрезка в планетарном масштабе. Структура изложения материала обусловлена предложенным Гугенхеймом делением империй на три группы: империи-универсумы (такие как империя Каролингов, Византия, Монгольская и Китайская империи и т. д.), империи, изолированные в определенном географическом пространстве (Болгарская, Сербская, Японская, Латинская империя Константинополя, солнечные империи Латинской Америки), а также империи с рассредоточенными территориями (Германская империя Оттонов, Нормандская империя, империя Плантагенетов, талассократические империи Венеции и Шривиджаи).
Статьи авторов, среди которых как именитые ученые, так и яркие молодые исследователи, отличаются оригинальностью подходов, насыщены фактами и выводами, представляющими несомненный интерес не только для специалистов, но и для самого широкого круга любителей истории.
Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Процесс германизации, иными словами, монополизация империи немцами вопреки другим народам, по-видимому, начался в конце XIII в., что можно проиллюстрировать политическими сочинениями Александра из Рёса и распространением слова «Алемания» ( Alemannia ) в официальных текстах. В то же время люди все чаще декларировали свою преданность империи. Культивировалась память о былой славе, изображения императоров высекались в камне и изображались на витражах. Империя приобретала черты «общей родины», отличной от patria propria [273] Собственная земля. — Прим. пер .
, в которой протекала повседневная жизнь (Франсис Рапп). Патриотическое чувство подпитывалось сокращением имперских территорий и «германизацией» ее географии. Нация стала выражением географических, правовых и политических рамок повседневности. В значительной степени она была плодом гордости за общее прошлое и стремлением защитить имперский авторитет, завязанный на ее особое место в истории спасения. Мистический аспект возобладал: «Империя стала уделом немецкого народа и немецкой гордости» (Петер Морав). Как это на первый взгляд ни парадоксально, но в конце концов империя произвела на свет нацию.
«Империя! Вы даже не можете себе представить, что это за чудовище!» — восклицал Карл IV в ответ на критику Петрарки. Он понимал, что империя как универсалистский проект была утопией, обреченной на погибель, ведь он вовлекал Германское государство в противоборство с папой, которое не могло окончиться ничем иным, как сокращением территорий. С другой стороны, он осознавал, что империя как союз трех королевств была источником неразрешимых противоречий. По сути, империя никогда не была государством. После 1350 г. от нее остались лишь идея и мессианские чаяния. Тем не менее желание воссоздать империю говорит о стремлении к единству, которое было заложено в природу монотеистических политических объединений. При Фридрихе III произошел очередной переход: сначала империя перешла от римлян к франкам, затем от франков к немцам, и наконец она стала собственностью семейства Габсбургов, будучи перенесенной из Германии в Австрию.
Столь печальный итог можно объяснить структурными проблемами. Потенциал империи был подорван центробежными силами и слабостью королевской власти, которая во многом зависела от князей. Форму правления в империи следует определить скорее как аристократическую, нежели монархическую. Король, по сути, играл роль «президента» [274] Francis Rapp, Le Saint Empire romain germanique, Paris, Tallandier, 2000, p. 104.
, который был втянут в соперничество между князьями и не мог ничего сделать без согласия своих самых могущественных вассалов. Борьба за инвеституру стала переломным моментом. Победителем вышел не римский понтифик, а князья империи: они низложили Генриха IV и показали, что империя и император впредь не образуют единого целого. Несмотря на всю блистательность правлений Фридриха Барбароссы и Фридриха II, харизматическая природа власти императоров стремительно разрушалась.
Чтобы реализовать имперский потенциал, помимо желания, необходимы средства и войска. Воля у императоров была, а денег не хватало: империя располагала большими ресурсами, однако короли не имели к ним доступа. Вооруженных сил также не хватало. Наконец, империя пала жертвой недостатка политического мышления: никто не мог представить, какой она могла бы быть. Несостоятельность имперской политики объясняется могуществом противников и неподконтрольностью территории империи, что создает впечатление некой незавершенности. Эта политика стала утопичной в то время, когда другие европейские монархии приобретали черты централизованных и бюрократических государств. Смысл существования такого государства сводился к природе человека как политического животного и со временем отдалился от мечты о строительстве града Божьего.
Веками императоры блуждали между мечтой о возрождении Рима и жаждой универсализма, однако раздробленность Германского королевства мешала претворению далеко идущих планов в жизнь. Разобщенность территорий и запутанность политики, вызванная противодействием князей и имперских городов, противоречили идее универсализма. Империю парализовало стремление к идеалу. Универсализм был анахронизмом. К концу XIII в. он окончательно испарился. Не возникало даже мысли об объединении трех королевств. С тех пор немецкая нация раздиралась противоречиями: с одной стороны, немцы ощущали себя покинутыми империей, а с другой — стремились воплотить ее.
Специалисты по геополитике сказали бы, что империи недоставало «золотой силы», применение «жесткой силы» подвержено случаю, а «мягкая сила» была слабо развита. Имперский ореол, в существовании которого нельзя сомневаться, мог не только мобилизовывать подданных и внушать повиновение, но также вызывать сопротивление и безразличие. Эта средневековая империя оставила в наследство надежду, построенную на ностальгическом воспоминании о былом величии, которая легла в основу коллективной гордости и национальной идеи. В 1519 г. Карл V был избран императором, а не королем. Империя оказалась в руках немцев и вышла из Средневековья.
FOLZ, Robert, L’Idée d’empire en Occident, Paris, Aubier, 1953.
FRIED, Johannes, Der Weg in die Geschichte. Die Ursprünge Deutschlands bis 1024, Berlin, Propyläen, 1994; 2 eéd., 1998.
KELLER, Hagen, Zwischen regionaler Begrenzung und universalem Horizont. Deutschland im Imperium der Salier und Staufer 1024–1250, Berlin, Propyläen, 1986.
MORAW, Peter, Vom offener Verfassung zur gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter, 1250–1490, Berlin, Propyläen, 1985.
PARISSE, Michel, Allemagne et empire au Moyen Âge, Paris, Hachette, 2002.
PRIETZEL, Malte, Das heilige römische Reich im Spätmittelalter, Darmstadt, WBG, 2004.
RAPP, Francis, Le Saint Empire romain germanique, Paris, Tallandier, 2000. (Рапп Ф. Священная Римская империя германской нации / Пер. с фр. М. В. Ковальковой. — СПб.: Евразия, 2009. 427, [5] с.)
SCHNEIDMÜLLER, Bernd, et WEINFURTER, Stefan, Heilig, Römisch, Deutsch. Das Reich im mittelalterlichen Europa, Dresde, Michael Sandstein, 2006.
13. Нормандская империя, империя нормандцев
(Пьер Бодуан)
Нормандцы никогда не претендовали на то, чтобы называть свое государство империей, а своих правителей — императорами. Ни один правитель из нормандской династии не заявлял о своем праве на управление всеми выходцами из одноименного герцогства, осевшими в Европе, на Британских островах или в Средиземноморье. Термин «нормандская империя» появился относительно недавно: в работе «Нормандцы в европейской истории» (The Norman in European History) американского историка Чарльза Хомера Хаскинса в 1915 г. «Нормандской империи» посвящена всего одна глава, в которой автор вводит расширенное определение слова «империя» для того, чтобы охарактеризовать владения ( dominions ) Плантагенетов [275] Charles Homer Haskins, The Norman in European History, Boston et New York, Houghton Mif in Company, 1915, chap. 4, pp. 85–114. «Это была империя в более широком и менее строгом смысле этого слова. Речь идет о многосоставном государстве, большем, чем простое королевство, и имперским по своему размаху, но не по организации» (p. 87).
. Хаскинс считает, что создание нормандцами империи было важнейшим событием их истории в XII в. Он обращает внимание на протяженность нормандских владений, региональные различия и в особенности на способность правителей, в частности Генриха II (1154–1189), создавать государства современного типа с эффективным правительством. Также он подчеркивает тесное взаимодействие между частями этих владений, главным образом между Нормандией и Англией, институциональное и судебное устройство которых существенно сблизились в это время. Несколько позже специалист по каноническому праву Пьер Андриё-Гитранкур в своем высокопарном сочинении использовал это словосочетание для того, чтобы описать территории, находившиеся под управлением нормандцев со времен викингов. То, как они руководили своими землями, казалось Андриё-Гитранкуру «чрезвычайно современным» для своего времени. «Скачкообразное» строительство империи, момент создания и дальнейшее развитие, по его мнению, были следствием опытности и здравомыслия: «Нормандцы использовали, совершенствовали, примиряли — ничего не разрушали и не поглощали до конца» [276] Pierre Andrieu-Guitrancourt, Histoire de l’Empire normand et de sa civilisation, Paris, Payot, 1952, p. 281.
.
Интервал:
Закладка:
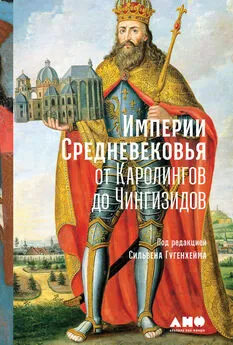
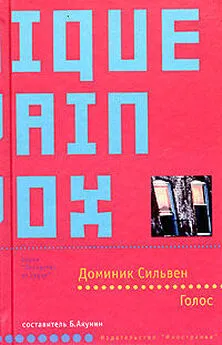
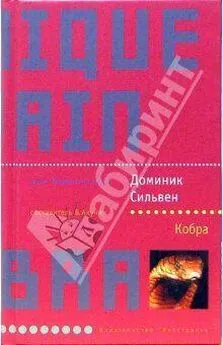
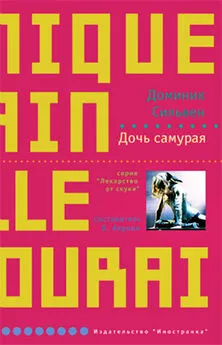
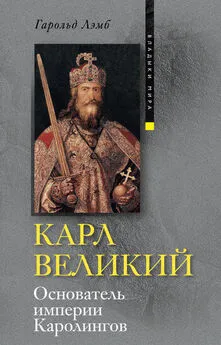
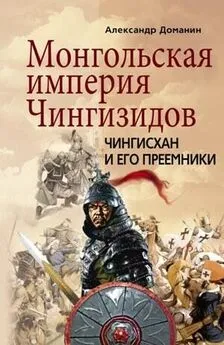
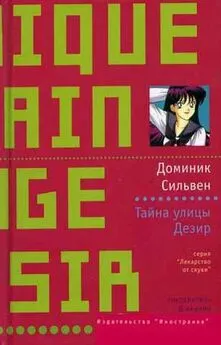
![Филипп Доллингер - Ганзейский союз [Торговая империя Средневековья от Лондона и Брюгге до Пскова и Новгорода]](/books/1071080/filipp-dollinger-ganzejskij-soyuz-torgovaya-imperiya.webp)
![Умберто Эко - С окраин империи. Хроники нового средневековья [litres]](/books/1150337/umberto-eko-s-okrain-imperii-hroniki-novogo-sredn.webp)