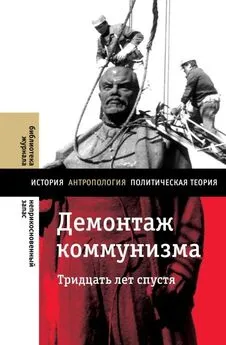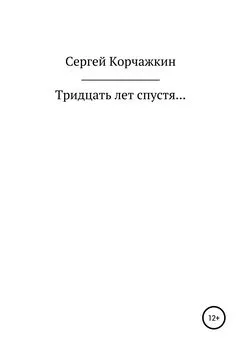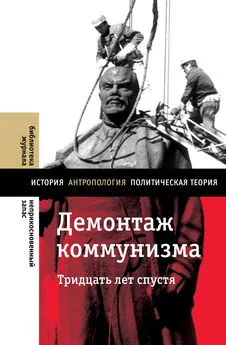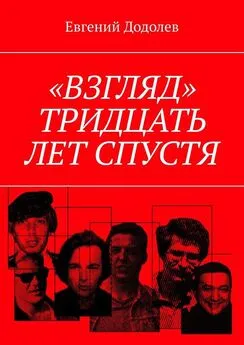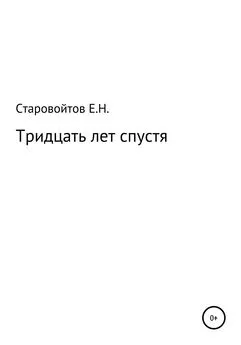Евгений Гонтмахер - Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя
- Название:Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814758
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Гонтмахер - Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя краткое содержание
Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В результате с 1870‐х годов эти страны все больше отставали от Запада. К 1980‐м уровень демократии в странах советского блока был намного ниже ожидаемого, учитывая уровень доходов (см. график 3). А в начале 1990‐х они быстро приблизились к уровню электоральной демократии, прогнозируемому на основе их уровня экономического развития. Затем, после некоторой паузы, он снова резко вырос в начале нулевых, превзойдя прогнозируемый уровень, потом вернулся к нему и, наконец, вновь слегка его превысил. Если сравнить реальный уровень либеральной (а не электоральной) демократии с уровнем, прогнозируемым на основе экономического развития, результаты будут теми же, разве что реальный уровень к 2017 году падает на 0,8 пункта ниже прогнозируемого.
При этом вариативность в уровне политического развития разных стран за этот период резко увеличилась. В середине 1980‐х все страны советского блока были в высокой степени недемократическими. Теперь среди них на одном полюсе находится Туркменистан, чей рейтинг демократии примерно равен Бурунди или Сирии, а на другом – Латвия, занимающая в рейтингах такое же место, как Ирландия.
В целом можно сказать, что посткоммунистические страны достаточно быстро достигли уровня демократии, прогнозируемого исходя из уровня их экономического развития. При этом большинство из них не дотянуло до среднего показателя Западной Европы, что вполне соответствует этому уровню и масштабам их традиционного отставания от Запада не только в экономической, но и в политической сфере с начала XIX века.
Экономический транзит после крушения коммунизма, несомненно, продлился дольше и оказался болезненнее, чем ожидалось. Это обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, люди недооценивали глубину экономического кризиса, в условиях которого начинался переходный период. Во-вторых, мало кто осознавал, насколько редко другим странам удается догнать мировых экономических лидеров.
В ходе транзита резко усилились различия между посткоммунистическими экономиками, коррелировавшие с географическими параметрами разных экономик и запасами минерального сырья, которыми они располагали. У стран, расположенных поблизости от Западной Европы, было больше возможностей для интеграции в западные хозяйственные связи и для получения через них доступа к мировым рынкам. Те, кто обладал богатыми нефтегазовыми ресурсами, извлекли выгоды из роста цен и спроса на это сырье в 1999–2008 годах. Наиболее разочаровывающие результаты были у тех стран, кто не обладал ни одним из этих преимуществ.
Начало 1990‐х характеризовалось бурными спорами о том, какая стратегия реформ наиболее эффективна. На деле же выбор той или иной конкретной стратегии – и в целом обдуманные решения политиков – имели гораздо меньшее значение, чем это изначально предполагалось. Все посткоммунистические страны прошли через одни и те же процессы, хотя экономический спад в переходный период значительно различался по глубине и продолжительности. Но эти различия, судя по всему, обусловливались преимущественно страновыми характеристиками: географией, наличием ресурсов и стартовым уровнем развития.
Политические режимы в посткоммунистическом мире по уровню демократии в среднем приблизились к прогнозному уровню, определяемому их среднедушевым ВВП. Впрочем, процесс политических изменений был не лишен сюрпризов. На первом этапе многие политические аналитики ожидали серьезного всплеска популизма в ответ на более болезненный характер реформ в сравнении с ожидаемым 191 191 См., например: Przeworski A. Democracy and the Market. New York: Cambridge University Press, 1991.
. Однако на деле ответную реакцию вызвала преимущественно сама болезненность , а не реформы. На всех действующих лидеров возлагали ответственность за плохие экономические результаты и зачастую смещали их, вне зависимости от того, проводили ли они энергичные реформы или стремились их оттянуть 192 192 Roberts A. The Quality of Democracy in Eastern Europe: Public Preferences and Policy Reforms. New York: Cambridge University Press, 2010. Р. 57–84.
.
Наконец, еще одно наблюдение: за некоторыми исключениями посткоммунистические страны в целом стремились достичь характеристик, которые наблюдались у их непосредственных географических соседей 193 193 Treisman D. Twenty-five years of market reform: The political economy of change after communism // The Great Rebirth: Lessons from the victory of capitalism over communism / A. Anders, S. Djankov (eds). Peterson Institute for International Economics, 2014. Р. 273–296.
. Восточная Европа – как в экономическом, так и в политическом плане – двигалась в направлении Западной и недавно пережила такую же волну популизма, как и Западная Европа. Центральная Азия оказалась между молотом исламизма на юге и наковальней авторитарного девелопментализма на востоке (речь идет прежде всего об Афганистане и Китае). Страны Кавказа в чем-то стали напоминать своих соседей – Турцию и Иран. Что же касается России, соседствующей с множеством разных государств, от Китая до Финляндии, то ее тянули в разные стороны сразу несколько разнонаправленных векторов.
Часть 2
Траектории посткоммунизма
СОЮЗ РАЗДЕЛЕННЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Андрей Рябов (ИМЭМО РАН, Москва)
Крах коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и последовавший за ним распад СССР поначалу сформировали убеждение многих политиков и исследователей в том, что государства и народы, составлявшие после Второй мировой войны советский блок, отныне пойдут по общему пути строительства демократических обществ с открытой рыночной экономикой. Транзитологические концепции казались универсальной схемой для объяснения социальных перемен во всех посткоммунистических странах. Однако к концу 1990‐х годов стало очевидно, что демократический транзит, успешно осуществлявшийся в государствах ЦВЕ, на постсоветском пространстве явно затормозился.
Впрочем, большинство исследователей даже в первой половине 2000‐х годов продолжали рассматривать процессы, протекавшие на территории бывшего СССР, в русле концепций демократического транзита. И для того, чтобы объяснить реалии постсоветского пространства в духе этих концепций, примирить их с этими концепциями, в научный оборот стали активно вводиться понятия «демократии» с дополнительными определениями: «гибридная», «управляемая», «контролируемая», «делегативная» и др. 194 194 Шитова Е. «Демократии с прилагательными» в политологическом дискурсе: место Латинской Америки и Постсоветского пространства на теоретической карте мира // Геополитический журнал. 2014. № 5. С. 54–64.
Однако, как показали последующие годы, различия между постсоветским пространством и странами ЦВЕ оказались устойчивыми и пути их чем дальше, тем больше расходятся. Объясняется это тем, что трансформации в странах бывшего Советского Союза имели фундаментальные особенности, анализу которых и посвящена данная глава.
Интервал:
Закладка: