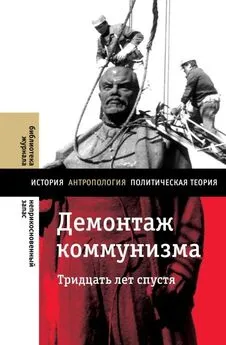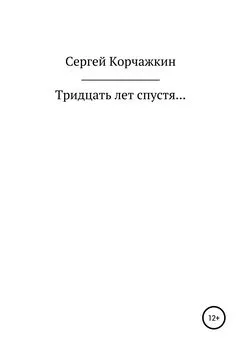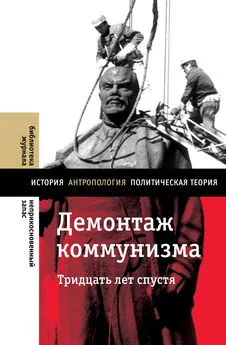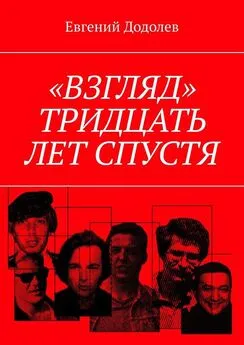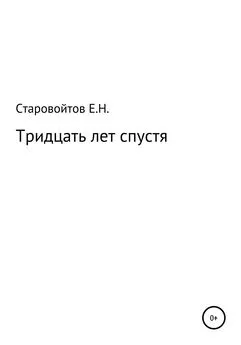Евгений Гонтмахер - Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя
- Название:Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814758
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Гонтмахер - Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя краткое содержание
Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Позитивный (а не нормативный) научный подход может помочь избежать неоправданных надежд по поводу потенциала демократических изменений и в то же время, что еще важнее, чрезмерной демонизации авторитарных лидеров. В особенности это относится к Путину, которого ученые аналитики часто изображают как всесильного и непобедимого актора-«супермена», напоминающего персонажей шпионских фильмов или детективных романов 173 173 Dawisha K. Putin’s Kleptocracy: Who Owns Russia? New York: Simon and Schuster, 2014; Hill F., Gaddy C. G. Mr. Putin: Operative in the Kremlin. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2015.
. Конечно, ни в коем случае нельзя недооценивать политические последствия «обучаемости» авторитарных лидеров в постсоветской Евразии 174 174 Hall S. G. F., Ambrosio T. Authoritarian Learning: A Conceptual Overview // East European Politics. 2017. Vol. 33 (2). P. 143–161; Golosov G. V. Authoritarian Learning in the Development of Russia’s Electoral System.
, равно как и способности и навыки автократов в других регионах мира 175 175 Bueno de Mesquita B., Smith A. The Dictator’s Handbook.
. Тем не менее авторитарные лидеры, несмотря на бóльшую свободу принятия решений и выбора тактики, чем у их демократических коллег (а возможно, как раз из‐за этого), подвержены многочисленным стратегическим просчетам и тактическим ошибкам. Печальная история Януковича, разрушившего собственную «выигрышную коалицию» до и во время Евромайдана 176 176 Kudelia S. The House that Yanukovych Built.
, – пример цепочки фатальных ошибок, допущенных лидером, который столкнулся с неожиданными вызовами и не сумел адекватно на них отреагировать. Кроме того, проблемы с получением и адекватным восприятием информации, типичные для многих авторитарных режимов 177 177 Svolik M. The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
, в условиях нарушения равновесия могут усугубить эти ошибки: непредвиденные последствия шагов политических акторов способны придать им самоубийственный характер.
Проблема для тех, кто исследует динамику политических режимов в постсоветской Евразии и других регионах мира, заключается не только в ограниченности их способности к прогнозированию в меняющихся условиях, но и в огромном количестве неизвестных переменных, которые могут иметь решающее значение для понимания «траекторий» режимов. Этот перечень, в частности, включает готовность постсоветских режимов, когда они ощущают угрозу самому своему существованию, прибегнуть к масштабному политическому насилию в качестве главного инструмента сохранения господства вместо опоры на селективные упреждающие репрессии во внутренней политике 178 178 Silitski V. Preempting Democracy: The Case of Belarus // Journal of Democracy. 2015. Vol. 16 (4). P. 83–97; Gel’ man V. The Politics of Fear.
и их вовлечение в войны на международной арене. Еще одна крайне важная, но неизвестная переменная – это динамика массовой политической поддержки, которая может радикально меняться, если общество обратится к поискам альтернатив политическому статус-кво. Высокий уровень поддержки политических лидеров, который мы наблюдаем, – даже если в условиях отсутствия соревновательности его нельзя считать подлинно репрезентативным 179 179 Frye T., Gehlbach S., Marquardt K. L., Reuter O. J. Is Putin’s Popularity Real? // Post-Soviet Affairs. 2017. Vol. 33 (1). P. 1–15.
– может снизиться, когда появляется возможность реального политического выбора. Неизвестна и степень управляемости постсоветских государств, печально известных низким качеством государственного управления 180 180 Gel’ man V. Political Foundations of Bad Governance in Post-Soviet Eurasia.
: ученые и эксперты не знают, как эти государства могут отреагировать на различные внешние шоки и повлияет ли эта реакция (а если да, то каким образом) на динамику политических режимов.
Ввиду столь длинного списка неизвестных переменных анализ логики политических изменений (не говоря уже об их прогнозировании) становится весьма проблематичным, особенно когда речь идет о падении автократов, как в Украине в 2014 году. Однако осознание пределов и границ научного знания – необходимый шаг к преодолению пессимистического консенсуса и началу поисков новых моделей динамики политических режимов. Такое изменение концептуальных рамок поможет специалистам по постсоветской Евразии «мыслить в категориях возможного, а не статистически вероятного», как выразился однажды Филипп Шмиттер 181 181 Munck G. L., Snyder R. Passion, Craft, and Method in Comparative Politics. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007. Р. 324.
. Оно также поможет не лишаться надежд тем, кто по-прежнему, несмотря на все антидемократические вызовы и соблазны в нашем мире, верит в демократию и в демократизацию этого региона. Поэтому главный лозунг российских оппозиционных митингов – «Россия будет свободной!» – можно воспринимать не только как призыв к действию, но и как один из важнейших пунктов и политической, и академической повестки дня в не столь уж далеком будущем.
«ДОГНАТЬ КАПИТАЛИЗМ»
ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ И НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОСТКОММУНИЗМА
Дэниэл Трейсман (Университет Калифорнии, Лос-Анджелес)
Когда коммунизм переживал окончательный коллапс в странах Восточной Европы и бывшем СССР, с 1989 по 1991 год, настроение граждан этих стран составляло смесь отчаяния и надежды. Экономическая ситуация была отчаянно тяжелой. Но крах старого режима порождал надежды на быстрое достижение жизненного уровня, сравнимого с тем, что существовал к западу от границ советского блока. Поскольку экономический кризис был порожден коммунизмом, многие полагали, что его крушение положит кризису конец. В политическом же плане западная демократия выглядела самой сутью «модерна», и потому очень многие рассчитывали, что на востоке достаточно быстро усвоят и утвердят эту систему.
Большие надежды сменились еще большими разочарованиями. Транзит оказался куда труднее, чем ожидалось. Что ставит перед нами вопрос: насколько разумными были эти первоначальные ожидания? Для ответа на который, в свою очередь, необходимо вновь проанализировать как особенности самой стартовой точки транзита, так и последующие изменения.
Следует прежде всего вспомнить, насколько серьезным был системный кризис, с которым страны Восточного блока столкнулись к началу 1990‐х. Во многих из них искусственно заниженные фиксированные цены и чрезмерная эмиссия денег в предыдущие несколько лет обернулись острым дефицитом потребительских товаров, а порой и продуктов питания. Во многих государствах образовался непосильный бюджетный дефицит, зачастую сочетавшийся с высоким уровнем внешней задолженности. Темпы роста во всех странах снижались, а в некоторых уже и сменились спадом. Дезинтеграция прежней системы СЭВ привела к разрушению торговых связей. Все эти факты создали беспрецедентную и чрезвычайную ситуацию 182 182 См., например: Gaidar Y. Collapse of an empire: Lessons for modern Russia. Brookings Institution Press, 2010; Åslund A. How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, the Caucasus, and Central Asia. 2nd edition. New York: Cambridge University Press, 2013.
.
Интервал:
Закладка: