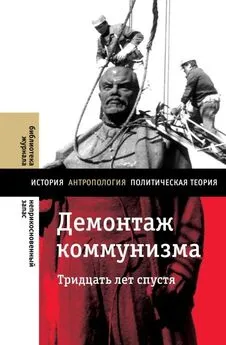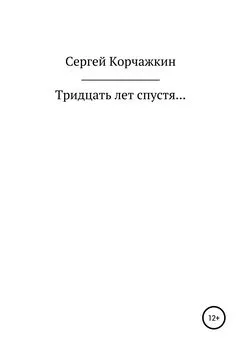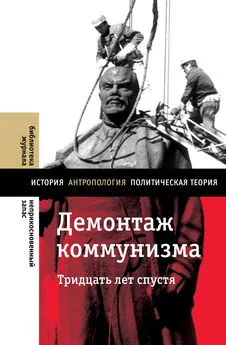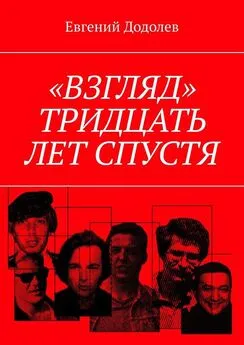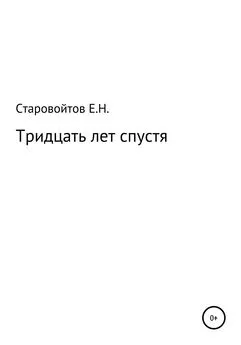Евгений Гонтмахер - Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя
- Название:Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814758
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Гонтмахер - Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя краткое содержание
Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В то же время другие элементы политико-экономического порядка времен позднего СССР, например относительно низкий уровень неравенства и наличие определенных государственных социальных гарантий, оказались отброшены без сколько-нибудь серьезного сопротивления со стороны общества. Кроме того, для «хорошего Советского Союза» характерны и те весьма значимые для правящих групп характеристики, которые реальному СССР не были присущи: не только полноценная рыночная экономика и отсутствие дефицита товаров и услуг, но и отсутствие институциональных ограничений для присвоения ренты правящими группами, а также создание внешнего интерфейса для легализации их статуса и доходов за рубежом. Не впадая в сильное преувеличение, можно сказать, что «хороший Советский Союз» был сознательно сконструирован в качестве нормативного идеала постсоветскими правящими группами и их обслугой: на фоне «посттрансформационного» экономического роста 2000‐х годов они смогли получить все то, чего хотели, но не могли достичь их предшественники в позднем СССР, и их усилия по сохранению этого нормативного идеала во многом принесли свои плоды. В результате «хороший Советский Союз» не создал стимулы для преодоления авторитаризма, а стал эффективным инструментом легитимации политического статус-кво как минимум в среднесрочной перспективе, до того времени, как нынешнее поколение постсоветских лидеров граждан сойдет с политической арены 149 149 Gel’ man V. Political Foundations of Bad Governance in Post-Soviet Eurasia.
.
Наконец, но не в последнюю очередь, политическая идентичность и ее мобилизация как для свержения постсоветских авторитарных режимов 150 150 Way L. A. Pluralism by Default.
, так и для их сохранения 151 151 Рогов К. Крымский синдром: механизмы авторитарной мобилизации // Контрапункт. 2015. № 1; https://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/rogov_countepoint1_0_0.pdf (доступ 29 января 2021).
представляет собой побочный продукт социального конструирования в еще большей степени, чем нормативный идеал «хорошего Советского Союза». Формы его использования можно рассматривать как побочные продукты борьбы элит, а разрешение этих конфликтов по принципу «игры с нулевой суммой» почти не оставляет простора для альтернативных оппозиционных идентичностей: последние либо кооптируются в возглавляемые режимом «выигрышные коалиции», либо эффективно изолируются. Россия может служить примером обоих этих вариантов. С одной стороны, этнические и региональные идентичности, которые субнациональные элиты в 1990‐х успешно мобилизовали в политических целях 152 152 Gorenburg D. P. Minority Ethnic Mobilization in the Russian Federation. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
, в следующем десятилетии утратили свое значение из‐за ослабления этих элит и их интеграции в «вертикаль власти» 153 153 Goode J. P. The Decline of Regionalism in Putin’s Russia: Boundary Issues. Abingdon: Routledge, 2011.
. С другой стороны, потенциал гражданских и культурных идентичностей, столь заметно проявившийся в ходе волны массовых протестов 2011–2012 годов, после развязанных режимом кампаний «культурных войн» серьезно ослаб 154 154 Smyth R., Soboleva I. Looking beyond the Economy: Pussy Riot and the Kremlin’s Voting Coalition // Post-Soviet Affairs. 2014. Vol. 30 (4). P. 257–275; Robinson N. Russian Neopatrimonialism and Putin’s «Cultural Turn» // Europe-Asia Studies. 2017. Vol. 69 (2). P. 348–366.
. В то же время, когда исход этих конфликтов носит иной характер, существует возможность эффективной мобилизации внешнеполитических идентичностей, пример тому – события в Украине и Молдове 155 155 Way L. A. Pluralism by Default.
. Но и этот феномен – как в постсоветской Евразии, так и в других регионах – также можно рассматривать не как источник динамики политических режимов, а как ее следствие.
Подведем итог: возвращение акторов в анализ динамики постсоветских режимов не только ставит под сомнение зацикленность на роли внеэкономических структурных факторов при объяснении этих процессов, но и создает совершенно иную картину. Государственное насилие, «наследие прошлого» и идентичности – это явления, во многом обусловленные интересами и сознательным выбором политических акторов, стремящихся к максимизации своей власти, а исход их конфликтов зачастую имеет большее значение, чем сами эти факторы. Смена фокуса исследовательской повестки может помочь объяснить, почему в некоторых странах структурные факторы имеют большое значение для динамики политических режимов, а в других – не имеют. Кроме того, эти соображения весьма актуальны для постановки следующей научной задачи.
Еще одной особенностью пессимистического консенсуса среди исследователей постсоветской Евразии является имплицитная убежденность специалистов в том, что нынешние политические режимы в этом регионе сохранятся на неопределенно долгий срок. Предполагается, что страны, развивающиеся в рамках модели «плюрализма по умолчанию», будут и дальше беспомощно барахтаться, не продвигаясь существенно ни к демократии, ни к авторитаризму, а модель «повелителя мух» предусматривает, что автократ, захвативший и узурпировавший власть, сохранит ее до конца своих дней. С фактической точки зрения эти допущения, возможно, справедливы, но они практически не оставляют места для анализа источников дальнейшей смены политических режимов, что отчасти напоминает провалы советологов, ставшие результатом пессимистического консенсуса 1970‐х.
На первый взгляд структурные факторы сегодняшнего дня не оставляют особых шансов на демократизацию в постсоветской Евразии и других регионах. Международная обстановка, как и во времена пессимистического консенсуса 1970‐х, выглядит весьма неблагоприятной для ограничения автократии (не говоря уже о переходах к демократии). Перспективы устойчивого экономического роста в России и некоторых других постсоветских государствах выглядят в лучшем случае сомнительными, особенно после завершения нефтяного бума 2000‐х. Но как долго просуществуют эти условия и как они могут повлиять на сохранение авторитаризма? Вместе с тем неизбежная смена политических лидеров постсоветских персоналистских авторитарных режимов повышает риски потери равновесия. Эти риски подпитываются низкой вероятностью передачи власти по наследству 156 156 См.: Brownlee J. Hereditary Succession in Modern Autocracies // World Politics. 2007. Vol. 59 (4). P. 595–628. Острое осознание постсоветскими элитами подобных перспектив создает у них мощные стимулы вести себя как «кочевые бандиты» ( Olson M. Dictatorship, Democracy, and Development. P. 567–576.) и чрезвычайно способствует различным проявлениям «недостойного правления» ( Cooley A., Heathershaw J. Dictators without Borders; Gel’ man V. Political Foundations of Bad Governance in Post-Soviet Eurasia).
: история успеха династического правления семьи Алиевых 157 157 Hale H. E. Patronal Politics.
, вероятно, так и останется исключением в постсоветской Евразии. Более того, неизбежный процесс смены поколений всего населения, скорее всего, усилит эти риски в связи с растущими в рядах российской молодежи требованиями создания альтернатив политическому статус-кво и в связи с ее радикальным отличием по образу жизни от поколения «дедушек», которое правит страной без помощи интернета и рассматривает его как источник политических угроз 158 158 Soldatov A., Borogan I. The Red Web: The Struggle between Russia’s Digital Dictators and the New Online Revolutionaries. New York: Public Affairs, 2015.
. К тому же, несмотря на все усилия пропаганды, привлекательность «хорошего Советского Союза» как ретроспективной нормативной модели со временем будет падать.
Интервал:
Закладка: