Збигнев Залуский - Сорок четвертый
- Название:Сорок четвертый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Збигнев Залуский - Сорок четвертый краткое содержание
Подробно излагая ход боевых действий по освобождению Польши от фашистских захватчиков, З. Залуский, сам прошедший дорогами войны с Войском Польским до Берлина, особо подчеркивает решающий вклад Советского Союза и его Вооруженных Сил в разгром гитлеровской Германии и освобождение Польши.
Основываясь на документах, литературных произведениях, личных переживаниях, автор живо и красочно рассказывает о событиях и явлениях того бурного времени. В поле зрения автора исторические факты различного масштаба: от официальных политических акций до личных судеб простых людей, от фронтовых операций до боев отдельных партизанских отрядов.
Сорок четвертый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вероятно, это важный спор — спор о характере польской революции 1944 года. Но эта революция была прежде всего революцией людей. Рожденная в сердцах людей и осуществленная людьми. И для людей, которые в ней жили, которые ее творили и которые после нее и опираясь на нее строили свою страну и свою жизнь. Именно это было самым важным.
ПОЛЬСКИЙ ОКТЯБРЬ
Атомистика революции.Понимание причин исторического события обычно проходит через различные фазы, зависящие от глубины знания о нем. На первый взгляд все кажется таким простым: причина — гнет, следствие — революция; причина — воля масс, следствие — смена строя. Лишь углубление во всю сложность конкретных исторических обстоятельств, в деятельность людей, организаций, политических партий и направлений, одним словом — в политику эпохи, обнаруживает сложную картину, запутанную до предела, почти не поддающуюся распутыванию, картину такую концентрированную, так насыщенную неожиданными, порой единичными фактами, что она просто заслоняет те первичные и, как теперь кажется, недопустимо упрощенные, вульгаризированные общие причины исторического события. В этом случае можно легко забыть о социальном базисе политической битвы, принять политику за первоисточник истории — движения масс и возникновения событий, а не за ее форму, как, по сути, обстоит дело. А уже отсюда — прямая дорога к увлекательному изучению взаимозависимости и контрзависимости фактов и событий, к выискиванию скрытного содержания в тех или иных актах политических руководителей, к изучению тайных замыслов, к формулированию так называемых исторических загадок и поискам ответа на них, к прослеживанию тайного смысла каждого отдельного факта и исторического процесса в целом.
Изучая деятельность польского правительства в эмиграции, можно убедиться, что оно в течение всего времени вело большую политическую игру — поединок с правительством Советского Союза. Факт почти юмористического характера: даже образование ПКНО, начало возрождения и строительства свободной народной Польши на освобожденных территориях польские эмигрантские круги первоначально оценивали как «советский шантаж, призванный вынудить польское правительство в Лондоне к податливости и возможно большим уступкам».
«Лондонские» руководящие деятели в стране, в подполье более или менее понимали роль, которую верхи отвели им в этом деле, но постоянно добивались внимания к своей собственной игре, к сведению счетов с «горсткой коммунистов, готовящей заговор против законной власти». Политики и историки польской буржуазии до сих пор именно так подходят к содержанию новейшей истории Польши.
Нельзя отрицать, что и у нас немало наблюдателей прошлого хотели бы видеть в политических актах польского левого течения прежде всего ходы в игре против «Лондона», тактические шаги, вытекающие из действий противника и рассчитанные на его реакцию. Если Грот — так, то Новотко — этак, если Бур — так, то Финдер — этак. А потом Гомулка — так, значит, Миколайчик — иначе. И если рассматривать историю сквозь призму политических инициатив, деклараций и контрдеклараций, заявлений и антизаявлений, действий и противодействий как некое подобие шахматной партии или даже матча по пинг-понгу, разыгрываемого руководящими силами противостоящих друг другу партнеров (в этом понимании — именно партнеров), можно легко упустить из виду ту, как бы третью, силу, отнюдь не болельщика, а третьего партнера, точнее, своеобразного судью этого матча — человека. Обычного человека или многомиллионные массы, народ. Этот «третий» не только живет своей собственной жизнью, имеет свои собственные потребности, стремления, требования, которые должны быть сформулированы, определены, реализованы. Он обладает также силой — силой воли и силой воплощения в жизнь, силой творить массовые, а следовательно, и исторические факты. В конечном счете не абстрактная история, а именно он выносит окончательный приговор — принимает или отвергает всякого рода программы, и политические курсы, а вместе с ними и их носителей — деятелей и руководителей.
Итак, где же искать подлинные пружины истории: в концепциях и усилиях политиков или в умах людей, составляющих массы, исторический поток? Кто же творец истории: тот, кто выступает с инициативой и пропагандирует, или тот, кто одобряет и осуществляет?
Историю творят народные массы. Но, чтобы увидеть это творчество, совсем необязательно наблюдать массовое движение, бои и демонстрации. Даже самая большая волна состоит из капель; измерить революционную температуру можно, исследуя ритм исторического события в его совокупности, но можно и исследуя скорость движения отдельных частиц исторического процесса, быстрое, изменчивое течение судеб отдельных людей, их, казалось бы, естественную суету вокруг своих дел, их неизбежные внутренние колебания. Этот способ наблюдения представляется нам тем более ценным, что, как уже говорилось, в Польше история не гремела фанфарами легендарной конармии и ее шаги не отдавались эхом топота пролетарских эскадронов, атакующих офицерские полки белых. По улицам маленьких польских городков история зачастую проходила инкогнито, без особого шума, как-то запросто. «Бабоньки, глядите сюда, да ведь это Климковый Стась идет с ружьем!» — кричит баба в Свецехове, наблюдая вступление отряда Армии Людовой {202} 202 Edward Gronczewski: „Wspomnienia „Przepiórki”, Lublin, 1964, s. 251.
. А потом?
Ленивое шарканье рваных сапог двух хлопцев, типично штатских, своих, местечковых, с винтовками и милицейскими повязками на рукавах, сонно кружащих по притихшим улицам подлясского или люблинского местечка, — разве это шаги истории? Ходят, наблюдают, даже как бы изумленные, может, слегка напуганные этой своей ролью опоры порядка, стоят на посту во имя того, чтобы была Польша, чтобы была власть (значит, порядок), чтобы уцелела школа, чтобы могла спокойно работать лесопилка…
И все-таки именно это — те самые шаги истории. Шаги истории, голос истории, облик истории. Именно той, единственной в своем роде истории польского 1944 года, которая не похожа на то, что уже было, и на то, что будет. По улицам деревень и местечек правобережной, люблинской Польши история двигалась не по середине мостовой, а по тротуарам, вместе с прохожими, в них самих. Она жила в каждом человеке, и судьба ее решалась в уме и сердце этого человека чаще, чем в открытых столкновениях многотысячных масс. Она жила в движении молекул исторической материи, жила в движении отдельных людей, составляющих классы и массы, народ, больше того, она жила прежде всего внутри человеческого атома.
…Начало польского октября 1944 года. Польский выстрел «Авроры» уже прозвучал в наших сердцах. Каждый человек, следуя собственным стремлениям, принял участие в движении народных масс.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


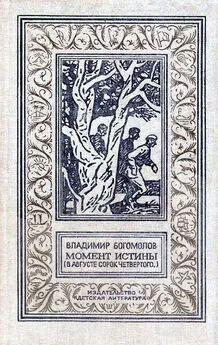

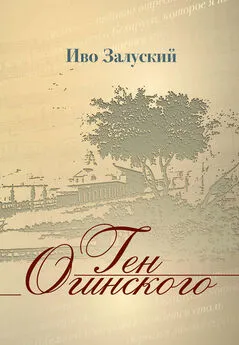
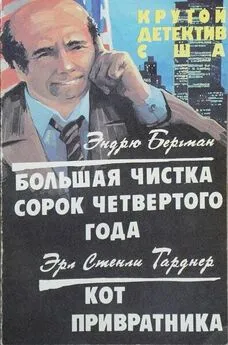
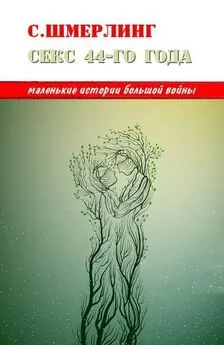
![Владимир Перстнев - Жаркий август сорок четвертого [К 70-летию Ясско-Кишиневской операции и освобождения г. Бендеры от фашистских захватчиков]](/books/1076104/vladimir-perstnev-zharkij-avgust-sorok-chetvertogo-k-70-letiyu-yassko-kishinevskoj-operacii-i-osvobozhdeniya-g-bendery-ot-fashistskih-zahvatchikov.webp)
![Анатолий Никаноркин - Сорок дней, сорок ночей [Повесть]](/books/1086820/anatolij-nikanorkin-sorok-dnej-sorok-nochej-poves.webp)
