Збигнев Залуский - Сорок четвертый
- Название:Сорок четвертый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Збигнев Залуский - Сорок четвертый краткое содержание
Подробно излагая ход боевых действий по освобождению Польши от фашистских захватчиков, З. Залуский, сам прошедший дорогами войны с Войском Польским до Берлина, особо подчеркивает решающий вклад Советского Союза и его Вооруженных Сил в разгром гитлеровской Германии и освобождение Польши.
Основываясь на документах, литературных произведениях, личных переживаниях, автор живо и красочно рассказывает о событиях и явлениях того бурного времени. В поле зрения автора исторические факты различного масштаба: от официальных политических акций до личных судеб простых людей, от фронтовых операций до боев отдельных партизанских отрядов.
Сорок четвертый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Леший отогнал неприятные воспоминания. Теперь остались лишь яблони над головой да неторопливые разговоры стариков вестовых около хаты, где расположился советский штаб. Все кончено. И ничего больше не требуется. Жаль только, что не успел прикончить эндеков. Наверное, теперь кто-то другой этим займется. Он, Леший, действительно устал. Только и отдыхал что после Жепницы, когда лежал раненый у Зоськи. Один, без людей и связей… Пожалуй, если все кончено, ему причитается. А потом, наверное, назад в гимназию. Брат — что же брат, он все равно не собирался учиться… Лениво текут мысли, лениво шумит Висла, и не знает Леший, что ничего еще не кончено, что уже завтра, прежде чем он уйдет отсюда, эти русские отправятся на фронт, придут другие. Не зная обстановки, они будут петушиться и хвататься за пистолеты, и в конце концов он позволит разоружить себя и свой с любовью взлелеянный отряд, какого никогда раньше не имел, ибо «свои или чужие, пусть правительство в Люблине разбирается, а мы разоружаем всех», не знает, что послезавтра он опять получит автомат, но уже другой, не знает, что его назначат начальником милиции, не знает еще многого и многого из того, что случится. Между тем из хаты идет вестовой, чтобы пригласить его к полковнику на чай, а Леший лежит и думает, что все кончено, все уже позади… Еще только одно — мать. Матери надо сказать про брата, как его еще тогда, в самом начале, у той лесной сторожки, эндеки топорами… И еще забыть, забыть, как мальчишка кричал, охваченный ужасом: «Братья поляки, я ведь за Польшу!..»
Адамяк.Подпоручник Адамяк, 30 лет, во всей этой истории не играет сколько-нибудь существенной роли, и его знания о революции не слишком велики. Сын старого железнодорожника Николаевской железной дороги, он не раз слышал от отца о революции, но обычно это были какие-то похожие на кинокартину или на кошмарные сны рассказы, заканчивавшиеся, чтобы детям не снились ужасы, мягкой усмешкой отца: «И когда там началась эта заваруха, мы с матерью — шмыг домой!» Незадолго до войны старый Адамяк поступил на работу в паровозное депо. В результате этого Адамяк-младший узнавал страну революции, пожалуй, в наименее благоприятных условиях. Русскую азбуку он изучал по станционным надписям сквозь зарешеченные окна вагонов. Языку его обучали девчата на полях подсолнечника, грамматике — «прицепщики на тракторе» во время полевых работ, а оттенки языка он понял уже потом в городе, простаивая за хлебом в очередях с бабами, ибо оставались уже одни только бабы. Мужики ушли на фронт. В армию Андерса он не попал, а вот брат, который был на два года старше, сгинул где-то в персидских или африканских синих далях. Сам он ехал в Сельцы с твердым намерением: главное — попасть в Польшу, а там найдется, что делать. Но как-то очень скоро он в качестве правофлангового оказался в строю непосредственно за усатым майором в отдельном польском батальоне при ордена Ленина Краснознаменном военном училище имени Ворошилова… Там он понял, что от него кое-что будет зависеть, что не только он будет кому-то нужен, но и ему самому предстоит оказывать влияние на подчиненных и даже решать важные вопросы. Однако Адамяк не был уверен, имеет ли он право решать. Он слушал лекции, принимал участие в семинарах, но социальные проблемы начинал усваивать только в сравнении. Вспоминая, как лежал больной малярией в колхозе, Адамяк начал задумываться, к какому врачу в случае болезни мог бы пойти его дядя, крестьянин из-под Воломина, кто платил за него, когда он лежал в больнице. Почему старший брат пошел не в гимназию, а в обучение к ремесленнику, хотя, Адамяк знал это, старший брат был способнее его. Почему дядя, младший брат матери, парень в расцвете лет и работящий, годами сидел без дела у них в доме, лишь изредка отправляясь на станцию, на погрузку шпал, и часто, когда подходило время обеда, исчезал, а он, Адамяк-младший, должен был искать его и приводить к столу под ворчливые замечания отца: «Что поделаешь, он же не виноват…», в то время как тут, при социализме, постоянно не хватает рабочих рук.
Правда, времени, чтобы искать ответ на эти вопросы, у него было немного. Только в госпитале после боев у него появилась такая возможность. Да и здесь он не так уж много надумал. Странным ему казалось только, что сестры и старые санитары в советском госпитале были как-то ближе, чем свои из местечка, подходившие к забору госпитального садика поговорить, цедя слова сквозь зубы. Адамяк пробовал утешить себя: в конце концов все просто, надо идти на фронт, скорее в полк, а это освободит от размышлений. Но и это не освобождало. Не успел уехать из госпиталя, как ночью в забитом людьми зале ожидания вокзала какая-то дамочка, увешанная сумками, зашипела на него: «Изменник. Продали пол-Польши!» Он никогда об этом не думал, это сидело где-то в глубине души, на самом дне. Но теперь плюнул: «А вам какое дело? Там дом был мой, а не ваш! Свое отдаю ради вас, ради вашей мерзкой жизни и вонючих мешков! Только не знаю, стоит ли…»
Получил отпуск. Тогда, в июле, он уже проходил через свое местечко, среди моря цветов и радостных криков. Теперь захотел повидать товарищей, девчат. С улыбкой думал, что наверняка не узнают его, очень уж изменился. С Галиной хотел просто пошутить, обратился к ней: «Паненка!», однако она не только узнала его, но и шикнула: «Не морочь мне голову! Ишь оделся в чужое!»
«Что ж, — думал он, возвратившись к себе в роту, — действительно надел чужое». Снял сапоги, взятые на время у товарища. Хотел показать себя: как-никак офицер. Ну что ж, пусть надел чужое, он соглашался, хотя знал, что Галина имела в виду вовсе не эти сапоги, о которых не могла знать.
Этим, собственно говоря, и ограничивается политическое воспитание подпоручника Адамяка. Ибо и жить ему оставалось немного. Было бы слишком банально, если бы он погиб от братоубийственной пули осенью 1944 года где-нибудь в окрестностях местечка, где в течение шести лет ходил в школу. Нет, он прошел с полком Вислу, Бзуру, Нотець и даже Гвду. И лишь там, где-то в лесах поморского приозерья, он погиб. Так подпоручник оказался в числе 5737 убитых 1-й армии. До самой смерти он с растущим беспокойством пересчитывал тающие ряды своей роты и с угасавшей надеждой поглядывал в сторону Вислы, откуда могло или должно было подойти пополнение. Кажется, под Дравским, которое называлось тогда Драмбург, он сказал заместителю командира полка поручнику Обарскому что-то о забытой армии, которая, как видно, никому не нужна.
Отец его еще и сегодня верит, что сын вернется.
Коза.Михал Коза, 37 лет, малоземельный крестьянин, холостой, беспартийный. Откуда-то из-под С., из старой, ушедшей в прошлое Польши, из глухого польского селения, погребенного в литовских лесах. Его мир, его горизонт ограничивался тремя убогими моргами земли, ставившими его в ряд самых бедных крестьян, таких, на которых ни одна девушка даже не взглянет. Узкие лесные дороги, недалекий городишко с церковью и еженедельным базаром… Даже в армии он не служил. Война, как это ни парадоксально, еще больше сузила этот горизонт. Неведомые лесные тропы позволяли в течение четырех лет благополучно оставаться в стороне от истории, которая не углублялась в леса, а двигалась по главному тракту через С. дальше, на Москву, а потом обратно — на Варшаву и Берлин. Коза сидел дома, пока можно было. В армию пошел тогда, когда нельзя было не пойти. Вот она, глина, из которой история лепит какие угодно формы, вот кирпичик, один из миллионов, из которых она возводит свои здания. Типичный пример пассивного объекта истории. Так ли? Не будем упрощать. Когда накануне решающих событий графа в метрике, определяющая возраст, извлекла Козу из его норы, когда он с рекрутским мешком, в самой плохонькой одежонке, ибо в армию не стоит брать лучшей, растворился в колонне, направляющейся в Польшу, в лагерь нового полка в подлясской деревне Н., то этот факт сам по себе вовсе не создал Михала Козу. Он только обнаружил его, вывел на сцену. Сущность положения Козы в его прежнем пассивном существовании заключалась в основном в невозможности такого существования. В невозможности продолжать это существование изолированного польского крестьянина в белорусской среде, становившейся по мере развития событий все более чуждой ему; в невозможности существовать в роли хозяина трех моргов земли, который не может даже жениться; невозможности продолжать прежнее существование, когда все менялось. Толчком к выходу Козы из этой ситуации, из этой невозможности продолжать прежнее существование, могли быть наравне с войной и мобилизацией и какие-либо другие факторы. И этот выход Михала Козы был неизбежен. Специфика польской ситуации характеризуется как раз такой формой толчка, военной, солдатской формой социально-политической активизации многочисленных бедняков, подобных Михалу Козе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


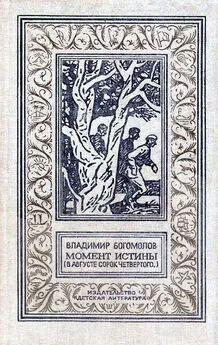

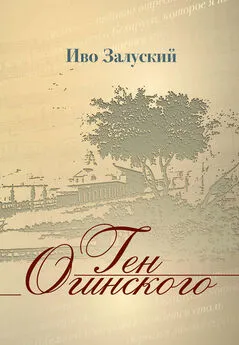
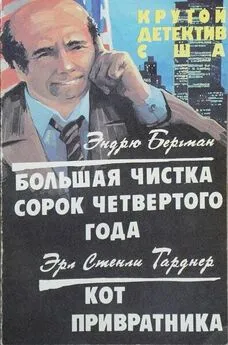
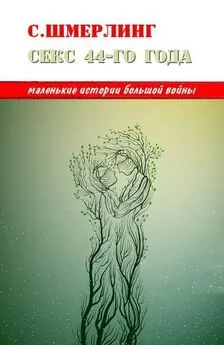
![Владимир Перстнев - Жаркий август сорок четвертого [К 70-летию Ясско-Кишиневской операции и освобождения г. Бендеры от фашистских захватчиков]](/books/1076104/vladimir-perstnev-zharkij-avgust-sorok-chetvertogo-k-70-letiyu-yassko-kishinevskoj-operacii-i-osvobozhdeniya-g-bendery-ot-fashistskih-zahvatchikov.webp)
![Анатолий Никаноркин - Сорок дней, сорок ночей [Повесть]](/books/1086820/anatolij-nikanorkin-sorok-dnej-sorok-nochej-poves.webp)
