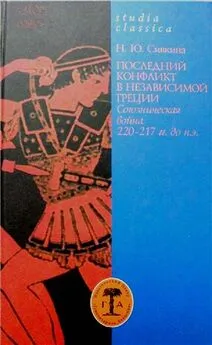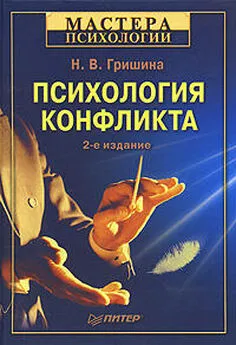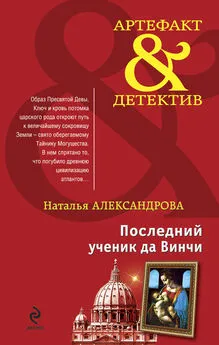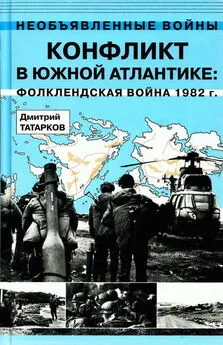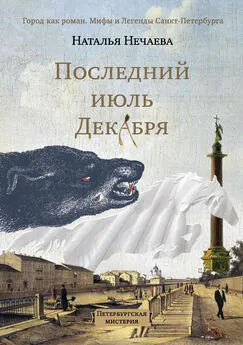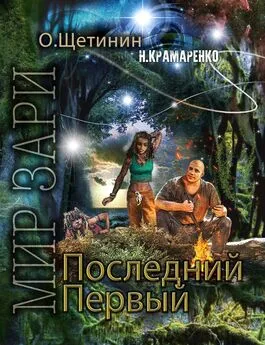Наталья Сивкина - Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э.
- Название:Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «Гуманитарная Академия»
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-93762-067-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Сивкина - Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э. краткое содержание
Издание предназначено как специалистам-антиковедам, так и всем, интересующимся античной историей и военным искусством древности.
Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Римское посольство летом 217 г. к Филиппу с требованием выдачи Деметрия (Liv., 22, 33, 3) и отказ царя обычно рассматриваются как начало дипломатических отношений между Римом и Македонией, которое имело негативный оттенок [494]. Однако это не совсем так; данное утверждение верно лишь в отношении римлян. Сенат не видел большой разницы между молодым полуварварским иллирийским государством и стареющей эллинистической Македонией. Примечательно, что в отличие от аналогичного случая с Тевтой, Рим не рассматривал отказ Филиппа как повод к немедленной войне. В то время в Италии шли боевые действия, поэтому можно говорить о нежелании Рима открытого конфликта с Македонией. Римляне лишь впоследствии расценили все мероприятия Филиппа как враждебные их протекторату над Иллирией [495]. Римскому менталитету была чужда идея Общего Мира. К тому же с первых иллирийских войн они уже начали реализовывать свою восточную политику [496]. Что касается Македонии, то римское требование о выдаче Деметрия, которое было бы уместно в отношении побежденного правителя, естественно, задело самолюбие царя. Но из этого обстоятельства не следует делать вывод о стремлении Филиппа к войне с римлянами.
Победа Ганнибала у Тразименского озера сама по себе ничего не могла означать для македонской политики. Одна громкая победа, совершенная в далекой стране, с которой не приходилось непосредственно иметь дела, полководцем, о котором македонский царь едва ли что-нибудь знал, не могла быть поворотным пунктом, изменившим весь ход истории эллинистических государств. Такое утверждение равносильно предположению, что Восточный поход Александра Македонского был вызван убийством его отца Филиппа II, организованным персами. Филипп V не мог знать планов Ганнибала, особенностей римской тактики ведения войны, их менталитета, столь непохожего на греческий [497]. Такие скоропалительные решения были не в характере царя.
Не следует ссылаться при этом на его молодость, горячность и честолюбие. За годы Союзнической войны он проявил свою отличную военную и организаторскую подготовку. Во всех рассмотренных операциях он вполне реально оценивал свои силы и возможности. Его основной целью все эти годы было укрепление позиции гегемона Эллинской лиги и постепенное расширение сферы македонского влияния в Греции. Но обе поставленные задачи были далеки от завершения. При жизни Арата Филипп не пользовался тем уважением и авторитетом, на который рассчитывал и которого добивался в ходе боевых действий. Укрепление позиций в Элладе также было довольно слабым; царю постоянно приходилось оглядываться на союзников, их желания и угрозы. Стоит вспомнить хотя бы намек Арата на расторжение договора лиги во время жертвоприношения на Ифоме [498].
Понимая все это, царь должен был быть авантюристом, вроде Деметрия Фарского, чтобы мыслить о переправе в Италию и о мировом господстве [499]. Филипп, конечно, не был лишен честолюбивых замыслов, но его нельзя назвать мечтателем на троне, он всегда руководствовался практическими мотивами. И в первую очередь, как у всех македонских правителей, сфера его интересов охватывала безопасность своих границ и подчинение тем или иным способом Греции.
Более реальным, по мнению некоторых исследователей, выглядит предположение о том, что «Деметрий мог обратить внимание царя на ситуацию в Иллирии, что было важнее для Македонии, чем битва при Тразименском озере» [500]. Казалось, он мог воспользоваться трудностями римлян и вытеснить их из Иллирии. Однако, как ни привлекательна такая точка зрения, она также подводит нас к положению, что Филипп все годы войны пристально наблюдал за делами западных соседей (вторая Иллирийская война шла параллельно Союзнической — в 219–218 гг.), ожидая подходящего момента для установления своего протектората над ними [501]. Подобная предусмотрительность выглядит сомнительно, а спонтанное поведение было не духе царя, как мы уже отмечали.
Обычно поворот в македонской политике и ухудшение характера царя связывают с влиянием на него Деметрия Фарского [502]. Однако, по нашему мнению, присутствие последнего должно было не сподвигнуть царя на завоевании Иллирии, а, напротив, удержать правителя от необдуманных действий. История преподнесла Филиппу наглядный урок: Деметрий только что пытался воспользоваться трудностями Рима в своих интересах, но его затея провалилась. Римляне показали, что в любых обстоятельствах готовы к войне. Македонский царь должен был это понимать. Кроме того, Деметрий, нарушив договор с римлянами, занимался грабежами на море. И в этом аспекте действия Рима выглядят законными и справедливыми: они, так же как и македонский царь, боролись с пиратством. Филипп, демонстрируя в ходе всей войны приверженность положениям Общего Мира, не мог в тот момент руководствоваться только советами иллирийского пирата и, тем более, развязывать новый военный конфликт ради него. Это шло вразрез с общим курсом македонской политики того периода.
Филипп V действительно мог прислушиваться к советам Деметрия, но не в отношении политического курса Македонии, а в морском деле. Иллирийский авантюрист занимался пиратством не один год до бегства в Македонию. Естественно, он знал иллирийское и греческое побережье, особенности кораблей, приемы ведения морского боя. Допустимо предположение, что Филипп принял его столь радушно и возвысил именно по причине его знаний и опыта в мореплавании. Стоит вспомнить, что морское дело после Антигона Гоната было фактически заброшено в Македонии. Молодой царь Филипп, создавая новую систему контроля над Грецией, нуждался в сильном флоте. Поэтому советы Деметрия, видимо, были ценными. Можно привести еще один аргумент в пользу последнего утверждения: когда македонский правитель в 216 г. занялся строительством кораблей для переброски сил к Аполлонии, то он построил 100 лемб (Polyb., V, 109, 3–4). Иными словами, за образец был принят иллирийский тип кораблей.
Македонско-иллирийские взаимоотношения всегда были сложными, достаточно вспомнить хотя бы итоги последнего сотрудничества Филиппа со Скердилаидом. Конечно, в прежние времена не было случая, чтобы македонские цари не воспользовались слабостью соседей в своих целях, но теперь ситуация коренным образом отличалась от предшествовавших эпох. Речь уже шла не о двух государствах (Иллирии и Македонии), а о трех (Иллирия, Македония и Рим). Филипп не мог не понимать, что попытка вытеснения со спорной территории другой державы вызовет ответные действия; было бы наивно с его стороны думать иначе. Тот военный опыт, который он приобрел за годы Союзнической войны, не позволил бы ему совершать опрометчивые шаги. Царь, несмотря на свои яркие и успешные кампании, достойные продолжателя дел Александра Великого, испытал и неудачи, и крушение замыслов, и сопротивление оппозиции. Начинать масштабные действия в Иллирии можно было только при твердой поддержке союзников. Однако царю не удалось уменьшить влияние на греков Арата. Прошло слишком мало времени, чтобы греческие союзники уверились в отсутствии у Филиппа желания поработить их и убедились бы в реальных преимуществах союза с Македонией. Нужно отметить и тот факт, что уже в конце 218 г. стало очевидно, что ввязываться в новую продолжительную войну было слишком дорого для македонского бюджета [503].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: