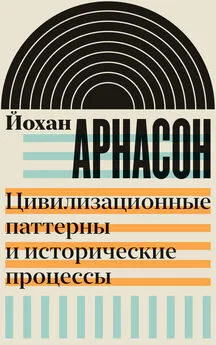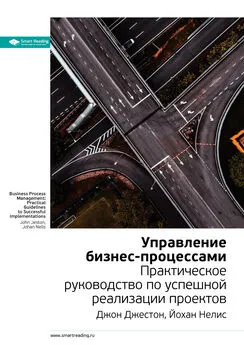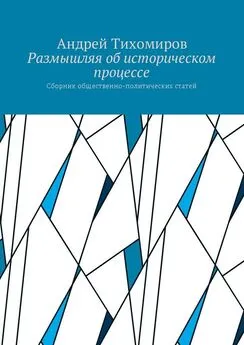Йохан Арнасон - Цивилизационные паттерны и исторические процессы
- Название:Цивилизационные паттерны и исторические процессы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816134
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йохан Арнасон - Цивилизационные паттерны и исторические процессы краткое содержание
Цивилизационные паттерны и исторические процессы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вторая мировая война началась менее чем через год после окончания Больших чисток. Мы можем лишь строить предположения о возможном ходе событий, если бы война началась позже. Общепризнано, что победа над нацистской Германией заново легитимировала сталинский режим на длительный срок. Но более обескураживающий факт состоит в том, что победа в войне могла в некоторой степени быть использована для оправдания чисток. Даже на Западе идея о том, что террор 1936–1938 годов сделал Советский Союз лучше подготовленным к войне, после 1945 года иногда считалась заслуживающей доверия.
Формирование советской модели необходимо рассматривать на фоне этих волн насилия, включая Вторую мировую войну. Но следует обратиться также и к более общим вопросам. Российский и советский опыт с 1914 по 1953 год является частью более широкой истории масштабных взрывов насилия, которые были доминирующей чертой истории ХХ века, но, как верно указывали критики, остались в основном не замеченными мейнстримной теорией модернизации. В этой сфере альтернативный подход, связанный с концепцией «множественных модерностей», до сих пор сделал слишком мало для преодоления предвзятости указанной парадигмы. Я не могу здесь подробно обсуждать данную проблему, но можно сделать ряд предварительных замечаний. Опыт ХХ века и пересмотр истории на его основе побудили некоторых социальных теоретиков и историков переопределить понятие власти, сделав больший акцент на насилии. Майкл Манн разработал типологию социальной власти, которая отделяет военный тип от политического на том основании, что эти две формы власти действуют различным способом 182. Политическая власть действует посредством контроля и регулирования на определенной территории, а военная действует непосредственно и является смертоносной, причем в ходе войны она привносит высокую степень неопределенности. Утверждения Манна оспаривались критиками, среди которых, на мой взгляд, наиболее убедительные аргументы предложил Джанфранко Поджи. Он подчеркивал, что обращение к средствам насилия и стремление максимизировать (в идеале монополизировать) контроль над ними являются неотъемлемой характеристикой политической власти. Когда же военный компонент отделяется от политического в такой степени, что выступает как особый тип власти, «это происходит внутри государства и по поводу государства » 183. Йорг Баберовски предлагает сфокусироваться на «пространствах насилия», где более не применимы стандартные модели целерационального действия, а само насилие разворачивается в соответствии с собственной хаотичной динамикой 184. Советский опыт может содержать некоторые уроки, относящиеся к этой теме.
Описанные выше события и эпизоды, по-видимому, подтверждают тезис Поджи о кризисе внутри государства. Восстания в армии в 1917 году, ставшие ключевой частью революционного процесса, были симптомом крушения государства под воздействием военного перенапряжения. Что касается Гражданской войны, она была конфликтом на обломках государства. Потерпевшая поражение сторона стремилась к восстановлению старого политического порядка, но не обладала ясным и общеразделяемым видением этой цели, а также каким-либо пространством для альтернативных проектов. Победители боролись за сохранение захваченной власти во имя революции, которая была призвана создать новый интернациональный порядок, в конечном итоге ведущий к упразднению государств; но реальным результатом стало восстановление имперского государства с возросшими возможностями. В конце 1920‐х годов, когда восстановленное государство вступило на путь «второй революции», наступление на сельское общество было столь насильственным, что некоторые историки назвали это односторонней гражданской войной. Это был конфликт по поводу подчинения общества государству, сопровождавшийся эксцессами и актами сопротивления, которые вывели весь процесс за рамки какой-либо стратегической согласованности. Наконец, Большие чистки были случаем сочетания множественных кризисов и конфликтов внутри государства. Одна из частей этой картины ясно видна. В то время как существуют многочисленные примеры захвата власти военными элитами, сложно было бы найти параллели советскому случаю, когда высшее политическое руководство подавило военных. Другие линии конфликта – между центром и периферией, между соперничавшими группировками высокопоставленных чиновников, а также и на более низких уровнях госаппарата – все еще остаются на уровне догадок.
Что касается пространств насилия, возникает вопрос об их создании и разграничении. Даже если мы принимаем утверждение о нарушении нормальных паттернов действия, эти пространства все равно должны создаваться социально-историческими акторами, что предполагает прослеживание идеологического и политического контекста на макроуровне. В этом отношении советский опыт представляется весьма поучительным. Даже если «утопия чистки» 185стала частью коммунистического воображаемого, попытки установить прямую связь между утопическим мышлением как таковым и самовоспроизводящимся насилием не выглядят убедительными. Решающее значение имеет связь с историческими истоками, и вновь история начинается с Первой мировой войны. Последовательность преобразований форм насилия может быть прослежена до этого события, потрясшего основы цивилизации (другая линия ведет от войны к фашизму, но она не является предметом нашего обсуждения). Исходной точкой выступает видение превращения империалистической войны в интернациональную гражданскую, тем самым противопоставляя милитаризованному классовому угнетению освободительное насилие пролетариата и его союзников. Когда революционеры, начавшие осуществлять этот сценарий, оказались у власти в изолированной стране, должны были вести гражданскую войну иного типа и столкнулись с отчуждением со стороны своей прежней социальной базы, следующим шагом стала легитимация произвольного насилия в отношении внутреннего врага, определенного в расплывчатых классовых терминах. В 1930‐е годы это завершилось охотой на ведьм внутри самой партии. Пространства насилия были тем самым переопределены в соответствии с политическим и идеологическим развитием режима. Ревизия этого процесса была интегральной частью незавершенных реформ после 1953 года.
Далее я кратко остановлюсь на упомянутых в начале данного послесловия новых перспективах, связанных с недавними процессами изменений. Нет сомнений относительно наиболее заметного и значительного факта. Продолжающаяся трансформация и возрастающая власть Китая должны повлиять на наше восприятие коммунистического опыта и его завершающих эпизодов. События конца прошлого века, которые прежде рассматривались как повсеместное крушение коммунизма или по крайней мере как свидетельство неизбежности такого крушения, должны сегодня в большей степени, чем двадцать лет назад, анализироваться с точки зрения целого спектра преобразований. Прежде всего, они представляют распутье евразийской истории; расхождение российского и китайского путей за пределами коммунизма становится все более явным. В Китае не было распада партии-государства, подобия непоследовательного неолиберального эпизода в России, а также геополитического сжатия. Западные попытки сконструировать образ «евразийской автократии», предположительно общей для России и Китая и бросающей вызов западной демократии, сумбурны и неубедительны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: