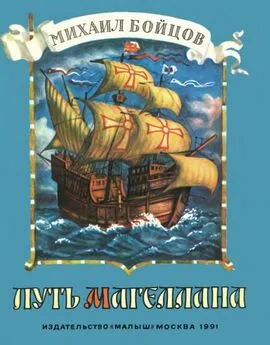Михаил Бойцов - Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе
- Название:Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский дом Высшей школы экономики
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2219-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Бойцов - Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе краткое содержание
Книга будет интересна историкам, филологам, историкам искусства, религиоведам, культурологам и политологам.
Второе издание, переработанное и дополненное.
Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сравнивая эту группу со статуями-колоннами северного портала, мы вправе констатировать (если, конечно, наше предположение верно), что безымянный шартрский мастер поколения 1200 г. разглядел нечто главное, поликлетовское, в доступных ему образцах античной и, возможно, византийской пластики и использовал находку для придания символического нюанса своему порталу. Но следует учесть, что он сделал это первым и что перед нами — первый контрапост в западной христианской пластике после Античности. Фёге, анализируя фигуру и лицо Соломона, пишет о важности этого факта; вслед за ним мы убеждаемся, что пусто́ты в рельефных складках позволяют взгляду почувствовать присутствие под ними тела, что, безусловно, очень важно с точки зрения жизни художественных форм. Но для историка искусства в шартрском Соломоне важны также «Fülle an lebendiger Anschauung», «Reichtum an Psyche» [448]. Лишь довольно приблизительно эту оценку можно передать как «полнота жизненного облика», «психологическое богатство». Язык истории искусства одновременно претендует на точное физиогномическое описание, но, как и физиогномист XIII в. или Лафатер в 1800 г., историк искусства идет дальше и старается разглядеть за складками одежды и прической — душу, точнее, внутренний мир человека, создавшего анализируемый им памятник. Разве не ту же цель преследовал Гильом из Сен-Тьерри, когда от подробного описания совершенного тела переходил к не менее подробному описанию души? Разве не за низведение этой самой бессмертной души до уровня физиологической функции внутри тела он критиковал своих оппонентов, называя их пренебрежительно «физиками» [449]?
Человек в средневековом искусстве — воплощенный жест, Gebärdefigur [450], а его внешние, видимые вблизи или издалека черты входят в этот «жест» в качестве неотъемлемых составляющих. Присмотримся к царице Савской. Она стоит, как легко заметить, попирая ногами скрючившуюся фигурку человечка с явно выраженными негроидными чертами лица (илл. 2), подобно тому, как каменные «добродетели» попирали каменные же «пороки» на порталах соборов. В руке у него — сосуд для благовоний. Очевидно, что это ее раб. Учитывая, что и царица Савская — эфиопка, мы понимаем, что в одной группе скульптор изобразил африканца карикатурно, а его повелительницу — красавицей, словно вспоминая первые строки «Песни песней»: «Черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы» (Песн 1: 4). Необходимость противопоставить две «черноты» с противоположным знаком поставило перед художником физиогномическую задачу, которую он и выполнил вполне успешно: мы не знаем, отличался ли цвет лица царицы от других лиц, когда статуи были раскрашены, но и в камне разница между повелительницей и рабом очевидна.
Хорошо, когда атрибуты, физиогномические или иные, читаемы невооруженным взглядом или взглядом, напротив, вооруженным знанием кодекса куртуазного поведения и библейской символики. Но и эти знания всех вопросов не снимают. В Страсбурге поколением позднее, после 1225 г., мастер, безусловно, знакомый со всеми крупными соборами севера Франции, создал замечательные статуи Церкви и Синагоги для южного портала. Очевидно, что и здесь заранее заданная система ценностных координат предполагала четкое противопоставление правды — кривде, пророческой дальновидности — слепоте и, логически мысля, красоты — уродству. Между тем, при всем очевидном триумфальном достоинстве первой, вторая поражает своим лиризмом. Более того, язык не поворачивается назвать ее поникшее лицо с повязкой на глазах незрячим. Художник верен догме, и, входя в собор с юга, мы не собьемся с пути и узнаем «правое» и «левое» по атрибутам. Но во взгляде, скрытом за повязкой, в чувственном наклоне фигуры, этом готическом hanchement , унаследованном от античной пластики, мы почувствуем едва ли не большее Reichtum an Psyche, чем в стоящей напротив Церкви.
Подобная же амбивалентность наблюдается и в группе разумных и неразумных дев на южном портале западного фасада второй половины XIII в. (илл. 3–4). Здесь Искуситель, сознательно одетый по последней феодальной моде того времени и стоящий прямо над головами прихожан, показывает всем девушкам яблоко. Девушки, в отличие от нас, не видят, что за роскошным плащом кишат жабы и змеи. Мы понимаем, что за приятной наружностью прячется внутренний порок, девушки же должны судить по яблоку и куртуазной улыбке князя мира сего — и сделать правильный выбор. Заказчикам и скульпторам понадобилась не только инсценировка этой известной евангельской притчи, к тому же очень удобной для символического оформления входа в церковь, но и свой собственный мотив Искусителя, обычно в этой сцене отсутствующего. Его явление дало повод для физиогномической работы над фигурами дев, каждая из которых, как можно видеть, реагирует по-своему, хотя строго догматически очевидно, что не затушившие лампад войдут в рай и будут счастливы, что и должно выразиться на их лицах; тех же неразумных, что не дождались Небесного Жениха, попросту ждет гибель.
Есть и другие примеры подобной физиогномики, не поддающейся однозначному объяснению с помощью христианской иконографии или каких-то иных аргументов. На фасаде Реймсского собора, создававшемся по понятным причинам как монументальное зерцало государей, есть изображение Вирсавии, являющейся Давиду во сне (не наяву!), чтобы соблазнить его. Сцена, очевидно, читалась как моральное предупреждение идущему на помазание будущему королю Франции, но красота Вирсавии, особенно в профиль (илл. 5), не могла не волновать и сама по себе. Не менее женственна Ева с миниатюрным Змеем на руках, украшавшая некогда северную розу того же собора (илл. 6). Конечно, никому не приходило в голову изображать великих ветхозаветных «грешниц» некрасивыми, потому что важно было продемонстрировать обольстительность греха. В такой логике плоть и телесная красота — метафоры. И все же именно после 1200 г. новая физиогномика в камне встает на службу традиционному языку соборного искусства, постепенно обретая и собственное звучание. Научившись придавать нюансы улыбке или гримасе, выражению глаз и даже носу, крупный мастер уже не позволит себе поставить рядом две одинаковые фигуры, на что согласился бы бургундский, тулузский, ломбардский или провансальский мастер XII в.
Вот на одном из порталов того же западного фасада Реймсского собора один святой епископ смотрит на нас эдаким инквизитором, другой, с откоса напротив, — лучится добротой и состраданием. Почему? Разве это соответствует характерам этих конкретных святых? Вряд ли. Скорее речь о двух моделях или типах отношений между пастырем и паствой [451]. Глядя на сильно пострадавшие реймсские статуи, мы должны понимать, что в момент создания, так же ярко раскрашенные, как сегодня апостолы парижской Сент-Шапель, все эти Евы, епископы и Вирсавии производили сильнейшее впечатление даже с далекого расстояния, а их физиогномика подчеркивалась натуралистической карнацией и одеждой. Хрестоматийно знаменитая улыбка архангела Гавриила, обращенная к Марии и встречающая прихожан на западном портале, резонно названа «готической». Она появилась впервые в 1180-е годы на лице пророка Даниила на откосе портика Славы (Portico de la Gloria) в Сантьяго-де-Компостела. Возможно, она была изобретена мастером Матео, одним из самых талантливых мастеров своего времени. Показанный в престижном памятнике мотив прижился на целое столетие и распространился по Европе с Запада на Восток, не затронув, однако, византийского мира: видимо, на Востоке его сочли бестактной вольностью, списывать неприятие западного художественного опыта на «герметичность» православия в это время уже не приходится. Но опять же, что значит эта улыбка? «Свидетельство социального поведения» [452]? Согласен, но имеют ли к «социальному поведению» какое-либо отношение пророк и архангел? Сцена могла подсказать зрителю XIII столетия, как отличить улыбку праведника в раю, иногда напоминающую именно смех (скажем, в Бамберге), иронию философа, милостивую снисходительность и куртуазность Реглинды от хохота приспешников дьявола. И все же грань между всеми этими улыбками и гримасами не всегда четкая [453]. Куртуазно улыбается и страсбургский Искуситель, а ему вторят, на все соглашаясь, неразумные девы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: