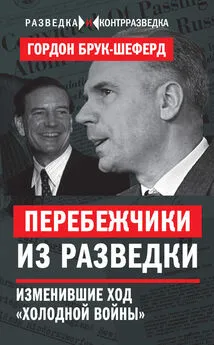Пол Картледж - Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории
- Название:Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-37971-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пол Картледж - Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории краткое содержание
В книге, написанной одним из ведущих специалистов по истории Спарты, британским историком Полом Картледжем, показано становление, расцвет и упадок спартанского общества и то огромное влияние, которое спартанцы оказали не только на Античные времена, но и на наше время. На страницах книги оживают такие исторические фигуры, как Ликург и герой Фермопил царь Леонид.
Автор сумел доказать, что спартанские женщины играли очень важную и яркую роль и имели большое влияние в этом, казалось бы, чисто мужском сообществе.
Мы включили в наше издание также и книгу Пола Картледжа, посвященную легендарному сражению при Фермопилах. На этом поле знаменитой битвы героические усилия горстки греческих воинов на века изменили представления сотен поколений о долге гражданина и солдата.
Битва при Фермопилах стала столкновением цивилизаций и поворотным пунктом мировой истории, навсегда определившим самобытность западного мира.
Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Именно из Милета в Ионии происходил непосредственный интеллектуальный предшественник Геродота Гекатей. Сам Геродот происходил из дорийского города Галикарнаса дальше к югу. Гекатей имел отношение к позднейшей моде на «научное» мышление, введенной в первые годы VI в. Фалесом, также родом из Милета. Фалеса можно упомянуть в связи с его исследованиями природы космоса как historia , что значит «исследование прошлого». Гекатей почти наверняка пользовался этим словом для собственных исследований, но то, что он изучал, было не внечеловеческим космосом, а миром людей. У него были свои разочарования. «Сказок, рассказанных греками, — гремел он, — много [вот оно, противоречие], и они нелепые». Геродоту, который неизбежно до некоторой степени последовал за Гекатеем, иногда буквально и часто без прямого подтверждения приходилось соглашаться с ним, но он принял, несомненно, более либеральную позицию:
Моя задача связать рассказанные истории, мне
Не обязательно верить в них.
Истории, которые более всего интересовали его и, вероятно, его читателей и слушателей V в., касались происхождения великого конфликта между Западом и Востоком, между греками и варварами, или то, что мы называем Греко-персидскими войнами начала V в. Вот как он описывает задачу, возложенную им самим на себя в предисловии к своим Историям :
Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения [ historie ], чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение, и великие и удивления достойные деяния, как эллинов, так и негреческих варваров, не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
Объясняя, почему «греки и негреческие варвары… вели войны друг с другом», он начал свое изложение, как мы видели, приблизительно с 550 г. до н. э., грубо говоря, за семьдесят лет до своего рождения. Он мог обратиться, вероятно, к немногим, если и были такие, действительно опытные и помнившие столь далекие события, но вокруг оставались сыновья и особенно внуки этих людей, способные передать ему эти рассказы, каждый, конечно, на свой манер, со своим особым подходом или особенностями. Но свидетельства в целом и качество Историй Геродота в частности таковы, что мы также можем и должны совершенно безопасно использовать Геродота в качестве руководства к основным хронологическим, географическим и политическим достижениям в Восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке между 550 и 479 гг. Все события позднее 479 г. мы называем «постмидянскими», т. е. те, что происходили после Персидских войн и не были предметом его исследования. Они были оставлены другим, включая и его великого последователя Фукидида, продолжившего повествование с 478 г.
Геродот отмечает, что спартанцы рано проявили интерес к продвижению Кира на Эгейское побережье. Утверждается, они направили посольство к Киру, заявив довольно твердо, чтобы он держался подальше от их восточных греческих братьев. В ответ Кир якобы холодно поставил их на место: «Кто эти спартанцы?» За два поколения его наследники получили все основания узнать из первых рук на поле боя при Фермопилах и также Платеях, кем они были. Не менее интересно, чем явное невежество Кира, явное знание о нем спартанцев и интерес к продвижению Персии. Это еще не изоляционистская, закрытая от окружающего мира Спарта, которая очень часто появляется на страницах Геродота и становится основной частью спартанского мифа, легенды или миража, не останавливающаяся перед ритуальными изгнаниями иностранцев, греков так же, как и негреков, и в отличие от остальных греков отказывающаяся формально делать различие между негреческими «варварами» и чужими греческими «иноземцами» ( xenoi ). Археология, по счастью, утверждает относительную открытость Спарты внешнему миру во второй половине VI в. Это было время, когда, например, как мы увидим в последней главе, Бафиклу из Магнезии на Меандре в Малой Азии было поручено создать «трон» для Аполлона в Амиклах.
К 500 г. Эллада стала известна как зона греческого расселения, протянувшаяся от пролива Гибралтар на западе далеко к восточной окраине Черного моря. Это явилось результатом того, что современные историки кратко называют колонизацией или годами колонизации, хотя важно помнить, что, например, Сиракузы, основанные Коринфом в 733 г., или Тарас (Тарент), основанный Спартой около 706 г., не были колониями в современном понимании этого слова, а с самого начала совершенно новыми и независимыми образованиями. Причина, по которой Тарас оставался единственной колонией Спарты, заключалась в том, что Спарта была в состоянии решить проблему приобретения земель, которые в целом лежали далеко позади путей колонизации, расширяясь за счет территорий в Лаконии и Мессении. В некотором смысле спартанский Лакедемон действительно не был просто государством-завоевателем, но скорее колониальной державой. Однако через полтора столетия или около того после основания Тараса стремление к захвату земель или, лучше сказать, возобновленные империалистические амбиции вновь овладели спартанцами.
Расширив свои земли сначала на юге и западе, спартанцы около второй четверти VI в. решили расширить свои территории на севере, то есть за счет внутренних районов Аркадии центрального Пелопоннеса. Образ Аркадии в наши дни — это идиллические пасторальные пейзажи, тихие и притягательные, но реальная Аркадия прошлого была труднопроходимым, суровым районом в глубине материка. Это был довольно отдаленный район, так как там сохранился диалект — ближайший исторический потомок микенского диалекта, преобладавшего в надписях, выполненных линейным письмом эпохи Поздней бронзы, и довольно бедный район, чтобы, по крайней мере, с начала V в., стать в Аркадии регулярным источником жадных поисков наемников для службы за границей. Конечно, спартанцы были в состоянии сфабриковать божественное оправдание своего вторжения в Аркадию в виде Дельфийского оракула, чтобы заранее снять обвинение в просто неприкрытой агрессии. Однако поддержка Аполлона требовала значительного времени для превращения ее в успешное предприятие и, в конце концов, спартанцам пришлось удовлетвориться существенно меньшим, чем повторение их завоевания Мессении.
Один печально известный случай описан у Геродота: спартанцы выступили в поход, неся мерные веревки для обмера земли, которая, как они полагали, вскоре им достанется, а также кандалы, чтобы заковать своих новых аркадских илотов, которые будут обрабатывать для них землю, но потерпели поражение и закончили как военнопленные, закованные в собственные кандалы. Впоследствии это сражение стало известно как Кандальная битва, столетием позже в храме Афины Алеа в Тегее Геродоту показали, как утверждают, те самые кандалы. Сила традиции и через 600 лет была такова, что набожному греческому путешественнику Павсанию продемонстрировали якобы в точности те же оковы. Если бы спартанцам не удалось добиться цели силой, то они пустили бы в ход коварную пропаганду и дипломатию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: