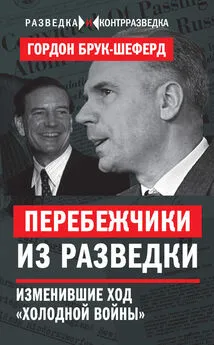Пол Картледж - Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории
- Название:Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-37971-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пол Картледж - Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории краткое содержание
В книге, написанной одним из ведущих специалистов по истории Спарты, британским историком Полом Картледжем, показано становление, расцвет и упадок спартанского общества и то огромное влияние, которое спартанцы оказали не только на Античные времена, но и на наше время. На страницах книги оживают такие исторические фигуры, как Ликург и герой Фермопил царь Леонид.
Автор сумел доказать, что спартанские женщины играли очень важную и яркую роль и имели большое влияние в этом, казалось бы, чисто мужском сообществе.
Мы включили в наше издание также и книгу Пола Картледжа, посвященную легендарному сражению при Фермопилах. На этом поле знаменитой битвы героические усилия горстки греческих воинов на века изменили представления сотен поколений о долге гражданина и солдата.
Битва при Фермопилах стала столкновением цивилизаций и поворотным пунктом мировой истории, навсегда определившим самобытность западного мира.
Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Упоминание о рабах выдвигает вопрос об охоте на людей. В рабовладельческом обществе, таком как классические Афины, характерной формой сопротивления рабов против порабощения был побег. Один засвидетельствованный наиболее яркий пример такого побега произошел в конце Афинской войны, когда, если верить Фукидиду, бежали «более чем дважды по 10.000 рабов», воспользовавшись тем, что спартанцы оккупировали часть принадлежавшей Афинам территории. Обычно рабы бежали в одиночку или вдвоем, маленькими группами. Но побеги рабов были столь регулярными и постоянными, что привели к появлению такого явления, как профессиональные ловцы рабов ( drapetagôgos ). Они и их собаки занимались тем, что, несомненно, могло быть очень доходным занятием. Иным, очень непохожим видом древнегреческого рабовладельческого общества была Спарта, и позже мы вернемся к вопросу об отличии между Спартой и Афинами в другой связи. Сейчас же бросается в глаза то, что охота на людей была систематической частью повседневных отношений между спартанцами и их низшим классом (греческих) рабов — илотов. Другими словами, охота на илотов, выбраковка илотов не была признаком дисфункции системы, как побеги рабов в Афинах. Скорее это было «нормальным» событием, важной частью набора репрессивной техники, применявшейся спартанцами против илотов под узаконенной видимостью ежегодного объявления войны против них. Таким образом, в Спарте охота и война были фактически неразрывно связанной деятельностью, с особыми спартанскими отклонениями.
От различий в жертвах охоты как между древним и современным обществами, так и внутри самой Древней Греции, что имело довольно тревожные последствия для различий в социальной структуре, я теперь перейду к основным различиям в метафорических аспектах охоты. Вполне привычно, что охотничья терминология вошла в повседневный английский словарь в рутинном, не грозном значении. Научные сотрудники, например, обязательно «охотятся» за справками в библиотеке. Охота, можно сказать, проникла в наш повседневный английский словарь на нескольких социальных уровнях и семантических пластах. Так же было и в Древней Греции. В блестящей монографии Алена Шнаппа о текстах и образах древнегреческой охоты третья глава, которая является первой, отражающей существо дела, точно озаглавлена « La metaphore du chasseur » («Метафоричность охоты». — фр .).
Однако здесь любое полезное и удобное сходство или аналогия между метафорами древней и современной охоты кончаются. В целом вся работа Шнаппа, озаглавленная « Le chasseur et la cite » [« Охотник и город »], указывает, что охота в Древней Греции не существовала как чисто социальное или экономическое явление, но занимала место внутри и только внутри всеобъемлющих границ полиса. Она была связана с политикой так, как не может быть связана современная охота. Более того, книга имеет подзаголовок — « Chasse et erotique dans la Grece ancienne » [« Охота и эротика в древней Греции »]. Несомненно, эротика и эротизм существовали и будут существовать в современных охотничьих сценариях, хотя Адриан Филлипс в комментариях к Ксенофонту интригующе замечает, что «для некоторых видов [охоты] необходимо прогнать даже «мысли о любви». Однако дело в том, что эротика и эротизм во всем современном явлении охоты не рассматриваются откровенно или прямо как цель, или даже как одна из главных целей.
Эта ключевая разница подводит нас к правильному толкованию, которое, я думаю, позволяет подчеркнуть различие между нами и ими, между древностью и современностью. Иначе говоря, охота на лис в наши дни никак не «натуральна» и не естественна, как хотел бы убедить нас Скрутон, она очень далека от того, чтобы являться второй натурой, если так можно выразиться. Возможно, она была гораздо ближе к природе во времена греческой античности, когда, как полезно напомнить, еще не появилась концепция о правах человека (не говоря уже о животных).
Это приводит меня к следующей и последней теме: кем в действительности были греки, на которых Скрутон ссылается как на важных, авторитетных предшественников. Древние греки сами очень хорошо осознавали, что они отнюдь не идентичны в культурном отношении, но они почти все соглашались, что имеют больше общего друг с другом, чем различий, однако за одним исключением — спартанцев. Древняя традиция, поощряемая самими спартанцами и особенно поддерживаемая афинянами, состояла в том, что Спарта была «другой», решительно отличной в самых существенных аспектах от всех остальных греческих городов и обществ. Знание пропагандистского объема спартанского «миража» или «мифа» подтолкнуло некоторых современных исследователей заявить, что Спарта в действительности не была настолько иной. Разрешите не согласиться с этим по целому ряду причин — политических, социальных, экономических, религиозных и т. д. и, не в последнюю очередь, по причине, которая имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме. Спартанская охота, хотел бы я возразить, отличается от охоты, которая практиковалась в любом греческом городе того времени. Это отнюдь не новая точка зрения, но, я думаю, стоит вновь кратко изложить ее основные положения только для того, чтобы показать, насколько на самом деле проблематичным может быть обращение к авторитету древних греков.
В центре всей спартанской политической системы ( politeia ) была практика совместного приема пищи или трапез, и от постоянного участия в них зависело осуществление полноправного спартанского «гражданства» ( politeia в другом значении). Существовало только два законных повода для пропуска обязательных вечерних трапез: во-первых, совершение необходимого жертвоприношения и, во-вторых, охота. Спартанцы охотились на ту же дичь, что и остальные греки, в том числе и афиняне: на оленей, кабанов, зайцев и т. д. Но в отличие от Афин охоту в Спарте невозможно описать как досуг, не говоря уже о спорте. Плоды охоты, насколько мы знаем, не использовались в репертуаре спартанских любовников или тех, кто пытался завязать любовные отношения с любимым юношей. Спартанская охота была скорее смертельно серьезным делом, и плоды охоты регулярно вносились в общую трапезу.
Еще более примечательным отличием, во всяком случае, от некоторых видов афинской охоты было то, что, каков бы ни был экономический, политический или социальный статус спартанцев, спартанское сообщество официально поощряло их регулярно принимать участие в охоте якобы в качестве военной подготовки. Таким образом, по просьбе любого спартанца, желавшего охотиться, требовалось предоставить лошадей и охотничьих собак, которые были частной собственностью, и илотов, которые не находились в частном владении, но, конечно, были связаны обязательствами службы с отдельным спартанским хозяином и хозяйками. На самом деле более бедные спартанцы обычно стремились извлечь преимущество из этих условий, частично по военным причинам, но также потому, что это давало им возможность обеспечить дополнительные лакомства для совместных трапез и таким образом держаться на том же уровне, что и более богатые спартанцы, которые предоставляли продукцию своих больших поместий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: