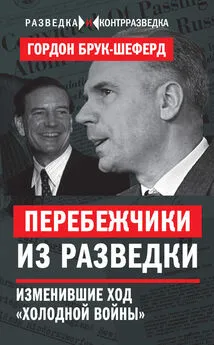Пол Картледж - Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории
- Название:Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-37971-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пол Картледж - Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории краткое содержание
В книге, написанной одним из ведущих специалистов по истории Спарты, британским историком Полом Картледжем, показано становление, расцвет и упадок спартанского общества и то огромное влияние, которое спартанцы оказали не только на Античные времена, но и на наше время. На страницах книги оживают такие исторические фигуры, как Ликург и герой Фермопил царь Леонид.
Автор сумел доказать, что спартанские женщины играли очень важную и яркую роль и имели большое влияние в этом, казалось бы, чисто мужском сообществе.
Мы включили в наше издание также и книгу Пола Картледжа, посвященную легендарному сражению при Фермопилах. На этом поле знаменитой битвы героические усилия горстки греческих воинов на века изменили представления сотен поколений о долге гражданина и солдата.
Битва при Фермопилах стала столкновением цивилизаций и поворотным пунктом мировой истории, навсегда определившим самобытность западного мира.
Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ренессанс был более западным, чем восточным и более римским, чем эллинистическим идейным и культурным явлением. Одним исключением из этого правила был Чириако ди Пицциколли, купец, более известный по месту рождения в Италии как Кириак из Анконы, человек, который навел мосты между Востоком и Западом. Ему мы обязаны подробными записками путешественника 1447 г., которые превзошли даже Павсания Перигета в его recherches du temps perdu [ поисках утерянного времени ]. Среди длинного списка спартанских воинов прошлого, чье отсутствие он оплакивает, приближаясь к Спарте через Мистру (тогда еще столицу деспотата Морей, но вскоре перешедшей к Оттоманской империи), разумеется, был и Леонид.
Переместившись из одного конца Европы к другому, в конце VI в. мы обнаружим шотландского гуманиста и историка Джорджа Бьюканана (в 1579 г.), восхваляющего Леонида наряду с Агесилаем II и другими как истинных царей по контрасту с монархами его времени, слишком погрязшими в роскоши. Однако ему противоречит Алджернон Блэквуд (в 1581 г.), сторонник конституционалистской точки зрения, считавший, что в Спарте цари просто пользовались именем и пустым титулом царя, а не сущностью царской власти. Почти точно в то же время Мишель де Монтень в своем эссе «О каннибалах» (1580) сделал следующее замечание, и, возможно, это не самое очевидное место, в котором можно было бы ожидать его найти:
Бывают поражения, слава которых вызывает зависть у победителей. Четыре победы, эти четыре сестры, прекраснейшие из всех, какие когда-либо видело солнце, — при Соломине, Платеях, при Микале и в Сицилии [имеется в виду битва при Гимере, согласно преданию, случившаяся в тот же самый день, что Саламинское сражение] — не осмелились противопоставить всю свою славу, вместе взятую, славе поражения царя Леонида и его воинов в Фермопильском ущелье.
/Перевод Т. Гнедич/Соотечественник Монтеня Фенелон почти столетие спустя использовал образ Леонида, единственного спартанца, в своих Dialogues des Morts [« Диалогах мертвых ]. Идея и заглавие работы заимствованы в конечном итоге из Лукиана (который инсценировал воображаемые диалоги как, по существу, правдивые и исторически возможные, так и невероятные). Однако идея диалога между спартанским царем и Великим царем Персии Ксерксом отчасти заимствована у Геродота. Подобно Бьюканану, Фенелон описывает Леонида как истинного царя по контрасту с Ксерксом и рисует его в совершенно спартанских тонах:
Я использовал свою власть царя при условии, что жил трудной, трезвой и активной жизнью, точно такой же, которой жил мой народ. Я был царем, только чтобы защищать свою родину и обеспечивать законность. Мое царское достоинство давало мне власть творить добро и не давало мне права творить зло.
Ксеркс, увы, для Фенелона был просто «слишком могущественным и слишком везучим» царем, иначе он «был бы вполне уважаемым человеком».
Немногим позднее, в самом конце XVII в., подвиги Леонида, защищавшего свободу, были вкратце прославлены по ту сторону Ла-Манша на английской сцене. Автор изображает контраст между этими подвигами и достойной сожаления групповщиной регента Павсания в забытой английской пьесе, названной именем последнего, для которого Перселл написал соответствующую музыку (1696 г.). Гораздо более удачным и заслуживающим известности было прославление Леонида Ричардом Гловером в его знаменитой поэме под названием «Леонид», впервые опубликованной в 1737 г. и ставшей кульминационной точкой в легенде о Леониде.
Леонид Гловера — патриот до мозга костей, пылкий приверженец свободы, сторонник сурового самоограничения, принципиальный противник склонных к роскоши персов, которые «изнемогают под абсолютной властью царя Ксеркса».
Эта обширная работа положила начало созданию современного мифа, который развился из литературной парадигмы Гловера во вдохновляющий призыв как «за», так и «против» революции. В рамках традиции викторианской публичной школы, введенной Томасом Арнольдом из Регби и продолженной в двадцатом столетии движением Курта Хана «Гордонстаун», он сформировал один из самых мощных векторов британской или английской политической и культурной идентичности. Легендарный классический образец идеалов восемнадцатого столетия приобрел центральное значение для классической традиции в целом. Это великолепная частная иллюстрация постоянно меняющегося восприятия классической древности, которая господствовала в столь многих отношениях в европейской культуре со времен Возрождения.
Однако культ Фермопил едва ли был особенностью Англии. Национальные войны конца XVIII в. и, кроме того, рост грекофильства подготовили путь к тому, что без преувеличения может быть названо «Веком Леонида» в Европе в начале XIX в. Самое блестящее проявление этого культурного явления — картина Жака-Луи Давида « Леонид в Фермопилах », впервые выставленная в 1814 г., над которой он работал много лет. Наполеон, очевидно, не знавший текст Монтеня о Фермопилах или не тронутый им, увидев картину, спросил, зачем Давиду надо было утруждать себя изображением проигравших. Большинство более поздних зрителей не разделяли мнение Наполеона и почти единодушно соглашались, что картина стоила посещения Лувра.
Передний план занимают воины в шлемах и обнаженные юноши в различных позах и положениях, в целом очень формально и симметрично скомпонованные и расположенные. За ними справа идет схватка между греками и персами под сопровождение трубачей, слева воины в шлемах и красных плащах в спартанском стиле поднимают венки в направлении воина, одетого сходным образом, который, очевидно, эфесом своего меча высекает надпись на камне (фактически слегка искаженный французский перевод части сентенции Симонида «Поведай, о путник, спартанцам…»). Спокойный центр картины и центральная фигура — это, конечно, Леонид. Он также изображен геройски обнаженным, за исключением плаща, который спускается с его левого плеча и под его телом, пары сандалий и шлема с причудливым плюмажем. Его щит подвешен на ремне через левое плечо, образуя что-то вроде спинки сиденья. В левой руке он держит копье, в правой руке сжимает меч, ножны которого провокационно закрывают его и одновременно обращают внимание на то, что популярные газеты сейчас называют мужским достоинством. Давид сам был гомосексуалистом, и не случайно, что взгляд зрителя прежде всего привлекает сексуальность Леонида, а затем выделяющиеся ягодицы прыгающего юноши с правой стороны картины. Давид считал эту работу своим шедевром, риторически вопрошая в конце своей жизни: «Я полагаю, вы знаете, что никто, кроме Давида, не мог написать Леонида?»
Однако, как бы это ни было великолепно, невозможно заслонить начало возрождения самими греками их прошлого и культурного наследия. Ранняя иллюстрация этого — «Патриотический гимн» явно вдохновленного «Марсельезой» Константина Ригаса (1798), который содержит волнующее обращение к духу Леонида. Байрон, наиболее известный из грекофилов, стремясь поддержать этот естественный порыв, также отозвался в « Паломничестве Чайльд-Гарольда » 1812 г.:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: