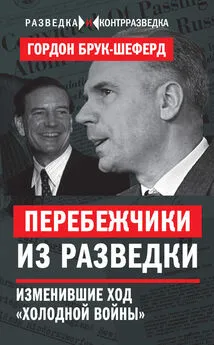Пол Картледж - Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории
- Название:Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-37971-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пол Картледж - Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории краткое содержание
В книге, написанной одним из ведущих специалистов по истории Спарты, британским историком Полом Картледжем, показано становление, расцвет и упадок спартанского общества и то огромное влияние, которое спартанцы оказали не только на Античные времена, но и на наше время. На страницах книги оживают такие исторические фигуры, как Ликург и герой Фермопил царь Леонид.
Автор сумел доказать, что спартанские женщины играли очень важную и яркую роль и имели большое влияние в этом, казалось бы, чисто мужском сообществе.
Мы включили в наше издание также и книгу Пола Картледжа, посвященную легендарному сражению при Фермопилах. На этом поле знаменитой битвы героические усилия горстки греческих воинов на века изменили представления сотен поколений о долге гражданина и солдата.
Битва при Фермопилах стала столкновением цивилизаций и поворотным пунктом мировой истории, навсегда определившим самобытность западного мира.
Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Было ли в действительности искалечено тело Леонида или нет, но его останки или то, что ими считается, перенесли назад в Спарту для перезахоронения сорок лет спустя. А место его смерти вскоре после 480 г. было отмечено скульптурой каменного льва leôn , постоянно напоминающей о Леониде. Обычных спартанцев, погибших во время кампании за границей, хоронили на месте, а на родине отмечали мемориальными досками с выгравированной лаконичной информацией, сообщающей, что такой-то «погиб на войне». Что же касается царей, то возвращение их тел, при необходимости натертых воском или медом для захоронения в Спарте, очевидно, являлось обычной спартанской практикой. Это было невозможно в случае Леонида, и вместо тела для похорон приготовили его поддельное изображение. В качестве компенсации был устроен великолепный вариант исключительного похоронного обряда («более чем то, что приличествовало человеческому существу», по словам Ксенофонта), предусмотренного для всех царей, обряд, который хорошо информированному Геродоту казался скорее варварским, прежде всего скифским, чем типично греческим.
Насколько возможно восстановить события, к участию привлекли всадников, которые сначала проскакали вокруг обширной территории спартанского государства, вызывая плакальщиков из каждой семьи периэков и илотов, как мужчин, так и женщин. В самой Спарте общественные дела были временно прекращены и объявлен десятидневный национальный траур. Общественные долги были аннулированы, некоторые заключенные отпущены на свободу. Сама церемония прошла с большим шумом, вызванным (в виде исключительного разрешения) воплями плакальщиц, а также грохотом и ударами металлической посуды. На какое-то время социальная и политическая структура спартанского полиса оставалась в подвешенном состоянии, пока за « Le roi est mort! » [«Король умер!»] не последовало триумфальное « Vive le roi! » [«Да здравствует король!». Это произошло благодаря отсутствию случавшихся очень часто дебатов по поводу преемственности власти. Перезахоронение Леонида в Спарте около 440 г. пришлось на деликатный период в международных отношениях, когда спартанские взгляды колебались между миротворчеством и воинственностью по отношению к Афинам во время «Мира 445 г.». Возможно, запоздалый похоронный обряд имел целью примирить внутренние спартанские фракции, обратив их внимание на то, что не вызывало споров, а напоминало о днях спартанской славы триумфального сопротивления Персии — роль, которая позже была узурпирована Афинами или передана им.
Все спартанские цари, как я твердо убежден, после смерти формально трактовались как герои: т. е. они удостаивались религиозного культа как герои — сверхчеловеческие, полубожественные существа. Однако в случае Леонида почитанию по понятным причинам придали исключительно высокое значение, в эллинскую эпоху спартанцы построили постоянный храм Леонидий и устраивали ежегодные праздники Леонидии в его честь. Этот праздник был восстановлен позже в правление римского императора Траяна (98–117 гг. н. э.), возможно, как раз тогда и потому, что Траян воевал против потомков древних персов и парфян и восстановление праздника финансировал благотворитель с роскошным греко-римским именем Г. Юлий Агесилай. В этот римский период праздник сопровождался ярмаркой, на которую спартанцы в полном противоречии с обычной для своих предков ксенофобией сознательно стремились привлечь странствующих торговцев, освободив их от обычных местных налогов на продажу и ввоз товаров. Существует даже упоминание о деятельности общественно контролируемого биржевого банка, то, что спартанцы времен Леонида не могли и предположить, не говоря уже о том, чтобы терпеть или поощрять.
В середине второго столетия нашей эры, когда Павсаний Перигет из Малой Азии прошел через Спарту, он обнаружил, что спартанцы активно отстаивают право города быть храмом памяти Греко-персидских войн, происходивших шесть или более веков назад. Мемориалу Леонида нашлось место наряду с могилой адмирала Эврибиада, мемориалами регента Павсания, погибших в Фермопилах и так называемым Персидским портиком на агоре. Павсания совершенно спокойно можно поместить в контекст общего движения культурного возрождения, известного под кратким названием Второй Софистики. Леонид для риториков и софистов того времени был явным героем греческого прошлого, достойным восхваления, даже если их похвалы были преувеличены и справедливо заслужили сатирические замечания со стороны блестяще остроумного Лукиана.
Со своей стороны Плутарх — еще одно украшение Второй Софистики, не думал о том, чтобы высмеять Леонида. Напротив, он написал его биографию, хотя, к несчастью, она не дошла до нас. Вместо этого у нас есть апофтегмы, приписываемые Леониду в « Изречениях царей и командиров », якобы собранные Плутархом и более аутентичные высказывания Плутарха, которые он включил в пространные Жизнеописания , как, например, Ликурга и Клеомена III (правившего в 236–221 гг.). Приведем цитату из последнего:
Рассказывают, что, когда Леонида в древние времена попросили дать оценку Тиртея как поэта, он отвечал: «Прекрасный поэт, зажигающий сердца молодежи», на том основании, что его стихи наполняли молодых людей таким энтузиазмом, что в бою они переставали беспокоиться о своей жизни.
Таким образом, сочинение автора II в. н. э. с помощью замечания, которое приписывается царю V в. до н. э., возвращает читателя назад к спартанскому «национальному» поэту VII в. до н. э., охватывая 800-летний период традиции.
В следующем, III в. н. э. христианский апологет Ориген (около 185–253 гг.) в словесной перепалке с язычником Цельсом ссылается на языческого предшественника. Он, не колеблясь, полагает, что главное христианское таинство страстей и смерти господних можно проиллюстрировать сравнением со смертью Леонида, избранной им самим и не неизбежной. Спустя столетия, когда борьба между язычеством и христианством усилилась, Синесий Киренский с гордостью заявил о своем предполагаемом происхождении от спартанцев и, более определенно, о своей родословной, восходящей, как и у Леонида, к Эврисфену, одному из гипотетических основателей двух спартанских царских домов. Начитанность Синесия едва ли была древней спартанской чертой, но страстная преданность охоте в его дохристианский период вряд ли бы поразила своей странностью предполагаемых спартанских предков.
Такие родственные притязания, предъявленные целыми общинами, так же как и отдельными личностями, засвидетельствованы уже с V в., но они становятся весьма распространенными во всем греческом мире начиная с эллинистической эпохи (в последние три столетия до н. э.). Например, в начале III в. Первосвященник Иерусалима даже заявил о притязаниях на общее происхождение евреев и спартанцев от Авраама и Моисея. Такая похвальба, несомненно, больше связана с политической необходимостью того времени, чем с генеалогической точностью и аутентичностью. Что касается достоверности заявления Синесия, то Кирена действительно основана Ферой в VII в. до н. э., но убеждение, также засвидетельствованное Геродотом, будто сама Фера (современный Санторин) основана Спартой, выглядит несколько сомнительно. Непосредственная цель самого Синесия, возможно, оптимистическая и, конечно, отвечающая его собственным интересам, состояла в том, чтобы сопоставить свою борьбу против кочевников, опустошавших Киренаику, с борьбой Леонида, защищавшего Грецию от персидских захватчиков. Хотя Синесия никак нельзя оценить как последнего язычника (впоследствии он стал епископом и перешел в христианство), он ознаменовал соответствующий момент исчезновения древнего мира.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: