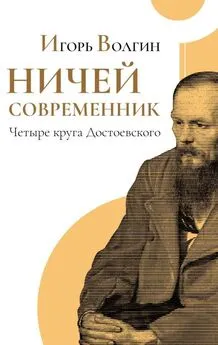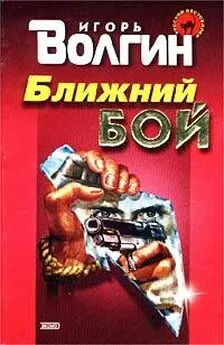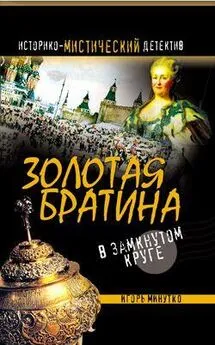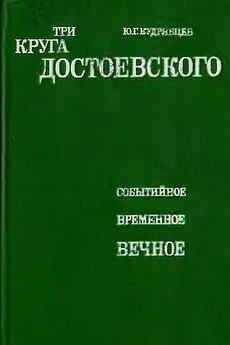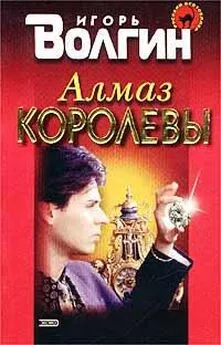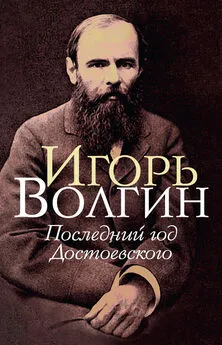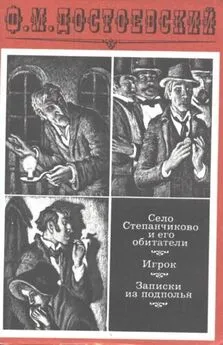Игорь Волгин - Ничей современник. Четыре круга Достоевского
- Название:Ничей современник. Четыре круга Достоевского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Нестор-История
- Год:2019
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-4469-1617-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Волгин - Ничей современник. Четыре круга Достоевского краткое содержание
На основе неизвестных архивных материалов воссоздаётся уникальная история «Дневника писателя», анализируются причины его феноменального успеха. Круг текстов Достоевского соотносится с их бытованием в историко-литературной традиции (В. Розанов, И. Ильин, И. Шмелёв).
Аналитическому обозрению и критическому осмыслению подвергается литература о Достоевском рубежа XX–XXI веков. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Ничей современник. Четыре круга Достоевского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все эти несомненные достоинства говорят сами за себя.
Впрочем, предоставим слово автору: «Разделы и страницы этой книги, привлекающие внимание к мельчайшим деталям его (Достоевского. – И. В. ) жизни и умственного труда, чередуются с разделами и страницами, выдержанными в духе широких литературных сопоставлений и противопоставлений».
Всё это полностью соответствует действительности. И внимание к деталям, и широкие сопоставления и противопоставления. Подобная – вполне справедливая – автохарактеристика как бы освобождает нас от ненужной, хотя и заслуженной автором, комплиментарности и позволяет – я повторяю ещё раз – сосредоточиться на самой проблеме.
«Достоевский-человек предшествует Достоевскому-писателю», – замечает Б. Бурсов. И далее так формулирует свой основной методологический принцип: «Здесь я не буду рассматривать черновиков и отрывочных записей Достоевского, у меня другая задача: разобраться в его личности в целом, как в черновом варианте его творчества» [1127].
Такая постановка вопроса, казалось бы, бесспорная по своему сокровенному смыслу, является тем не менее для нас весьма необычной (правда, в европейской критике XIX в. нечто подобное предпринималось Сент-Бёвом). Необычной не только в силу известного «биографического целомудрия», присущего русской литературе, но и потому, что в повёрнутой таким образом проблеме скрывается глубокая внутренняя контроверза.
Действительно, угол зрения существенно меняется. Объектом научного созерцания становится не творчество писателя как таковое, а его собственная эмпирическая личность. Но в таком случае литературоведение должно уступить место чему-то иному или, во всяком случае, «потесниться», стать одним из вспомогательных средств такого творческого проникновения, которое позволило бы запечатлеть личность писателя не только в одной из его ипостасей, а целостно.
Для этого либо потребны усилия едва ли не всех «человеческих» наук, либо…
Либо сама наука должна сделаться искусством.
Б. Бурсов пытается преодолеть это почти безнадёжное затруднение, определив жанр своей книги как «роман-исследование». Если «исследование» призвано удержать своего автора на почве строгих научных методов, то «роман» как бы освобождает его от этой необходимости. Вместе с тем «роман» указывает на то, что, несмотря на специально оговорённый отказ от «художественности», всё же не исключается возможность интуитивных постижений. Ибо задача – «весь Достоевский».
Россия Достоевского. Луна
Почти на четверть скрыта колокольней.
Торгуют кабаки, летят пролётки,
Пятиэтажные растут громады
В Гороховой, у Знаменья, под Смольным.
Везде танцклассы, вывески менял,
А рядом: “Henriette”, “Basile”, “Andrе”
И пышные гроба: «Шумилов-старший».
Конечно, эти ахматовские строки – чистый «роман». Но не содержат ли они (как, впрочем, и всякий «роман») момент исследования? А с другой стороны, не заключают ли, например, исследования той же Ахматовой о Пушкине блистательных научных догадок, не уступающих порой её самым глубоким поэтическим прозрениям?
Очевидно, не в названии дело. Мы судим писателя по конечным результатам его совокупных усилий, а не по именованию того жанра, в котором, согласно его убеждению, могла бы наиболее полно воплотиться его собственная писательская личность.
Дочь петербургского архитектора Елена Андреевна Штакеншнейдер рассказывает в своём дневнике о жалобах Анны Григорьевны Достоевской на собственного мужа: «Придёт с улицы молодой человек, назовётся бедным студентом, – ему три рубля. Другой является: был сослан, теперь возвращён Лорис-Меликовым, но жить нечем, надо двенадцать рублей, – двенадцать рублей даются… Вы не поверите, на железной дороге, например, он, как войдет в вокзал, так, кажется, до самого конца путешествия всё держит в руках раскрытое портмоне, так его и не прячет, и всё смотрит, кому бы из него дать что-нибудь… А случись что-нибудь, куда денемся? Чем мы будем жить? Ведь мы нищие!» [1128]
Анну Григорьевну можно понять. Наверное, её сокрушения сделались бы ещё горше, если бы она узнала, что её супруг (как это явствует из недавно опубликованных документов) втайне от неё посылал деньги своему нуждавшемуся приятелю (Оресту Миллеру), а то и вовсе незнакомым людям [1129].
Достоевский был добр. «Кто его знает, он ведь очень добрый, истинно добрый, несмотря на всё своё ехидство…» [1130]Это, казалось бы, вполне постороннее для него как художника обстоятельство («жестокий талант»!) имеет глубочайшую связь с чем-то самым неизменным в нём – изначальным, сущностным, субстанциональным.
В языке слова добро, доброе, совпадая по смыслу с понятиями щедрости, отзывчивости, избыточности, обозначают одновременно здоровье, крепость, надёжность, истинность, т. е. в конечном итоге – благо.
Правда, как утверждает один современный поэт, «добро должно быть с кулаками».
Б. Бурсов, по его собственному признанию, движется в своём исследовании «как бы по эллипсу», то приближаясь к Достоевскому, то удаляясь от него, всё время меняя точку наблюдения. И действительно, такой метод помогает запечатлеть героя книги в том или ином ракурсе, добавить какую-то важную деталь к его «мозаичному» облику. Неудобство состоит лишь в том, что количество подобных углов зрения практически неисчерпаемо…
Впрочем, нельзя сказать, чтобы у Б. Бурсова не было собственного «фокуса», собственного исходного пункта. О своём взгляде он заявил в самом начале и – с достаточной определённостью: недаром слово «двойничество» было вынесено в название первой части журнального варианта его книги.
«Фокус» как бы принципиально избран двойным, двоящимся.
«Гений – это цельность первозданная или прошедшая через расколотость. Достоевский остался господином собственной раздвоенности, и поэтому он осуществился как гений» [1131], – так возражали Б. Бурсову его оппоненты. «Извините, но это абсурд, сапоги всмятку, – немедленно откликался Б. Бурсов. – Как может человек быть господином своей муки?!» [1132]
Спор этот, в котором обе стороны укоряли друг друга в обоюдной глухоте к Достоевскому, сам порой начинал напоминать диалог глухих…
О двойничестве автора «Записок из подполья» говорили ещё его современники. Говорили и позднейшие исследователи. Действительно, это качество как будто неотделимо от Достоевского. Оно находит подтверждение как в многочисленных самохарактеристиках писателя, так и в объективных данных его творчества.
Но о каком двойничестве идет речь?
«С чрезвычайной ясностью в нём обнаруживалось особенного рода раздвоение, – приводит Б. Бурсов слова Н. Страхова, – состоящее в том, что человек предаётся очень живо известным мыслям и чувствам, но сохраняет в душе неподдающуюся и неколеблющуюся точку, с которой смотрит на самого себя, на свои мысли и чувства… Следствием такого душевного строя бывает то, что человек сохраняет всегда возможность судить о том, что наполняет его душу, что различные чувства и настроения могут проходить в душе, не овладевая ею до конца, и что из этого глубокого душевного центра исходит энергия, оживляющая и преобразующая всю деятельность и всё содержание ума и творчества».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: