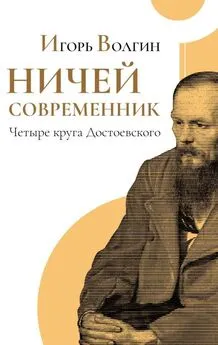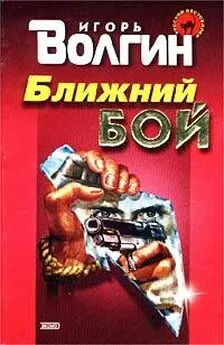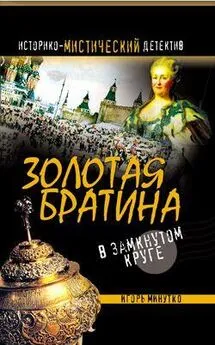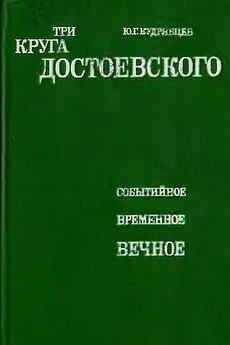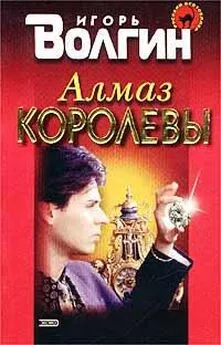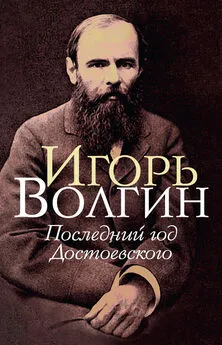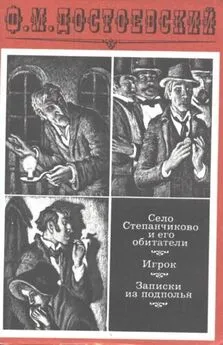Игорь Волгин - Ничей современник. Четыре круга Достоевского
- Название:Ничей современник. Четыре круга Достоевского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Нестор-История
- Год:2019
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-4469-1617-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Волгин - Ничей современник. Четыре круга Достоевского краткое содержание
На основе неизвестных архивных материалов воссоздаётся уникальная история «Дневника писателя», анализируются причины его феноменального успеха. Круг текстов Достоевского соотносится с их бытованием в историко-литературной традиции (В. Розанов, И. Ильин, И. Шмелёв).
Аналитическому обозрению и критическому осмыслению подвергается литература о Достоевском рубежа XX–XXI веков. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Ничей современник. Четыре круга Достоевского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подобная аберрация, помимо прочего, поддерживалась личными качествами главных сотрудников «Эпохи». При всех, порой весьма существенных индивидуальных различиях это были люди одного мирочувствования (разумеется, речь идёт лишь об общем типе такового). И хотя в плане житейско-бытовом трудно вообразить больший контраст, чем тот, который являли, например, Ап. Григорьев и Н. Страхов, всё-таки они довольно схожи в своём общественном поведении. Писатели с тонким и острым художественным чутьем, «идеалисты», «эстетики», именовавшие своих противников «доктринёрами», они сами на деле оказывались «теоретиками навыворот», ибо были бесконечно далеки от практики реальной политической борьбы, от необходимости однозначного (и поэтому в их глазах «неполноценного») исторического выбора.
В одном из своих писем к брату Ф. Достоевский как-то заметил, что их первый журнал был «до крайности наивен и, чёрт знает, может быть, и взял наивностью и верой».
Это – пронзительное замечание.
Действительно, в истории русской журналистики мы, пожалуй, не встретим больше такого примера, когда бы печатный орган, претендующий на разрешение центральных вопросов жизни, брался за это дело столь безоглядно – «в высшем смысле», – как бы намеренно отрешась от всех сиюминутных тактических соображений.
Подобная «наивность» искупалась только одним – «верой».
В этом смысле «Эпоха» уже значительно менее «наивна». Дело даже не в том, что теперь, после запрещения «Времени», приходилось учитывать жёсткий цензурный урок. «Пора отрезвленья печального» требовала от «Эпохи» трезвости в её отношениях с противниками и союзниками, с прошлым и будущим, с русской государственностью и русской историей.
Происходит очевидное (хотя далеко не окончательное) заземление первоначальных идеалов; в поведении «Эпохи» присутствует постоянная оглядка на соседей «справа». Отсюда – затруднённость речи, горечь, ожесточение, усталость. «Редакционные собрания… – свидетельствует Н. Страхов, – не походили на собрания “Времени”, они были малолюдны и неоживлённы».
С утратой «наивности» охладевала и «вера». Судьба «Эпохи» запечатлела эту коллизию с особенной остротой.
«Эпоха» пыталась сохранить лицо, не искажаемое общественными страстями, в момент, когда эти страсти усиленно загонялись «вовнутрь» (и тогда на поверхность, как справедливо сетовал Фукс, выступали «подробности домашней жизни»).
Согласно формуле Н. Страхова, «славянофилы победили»; но признание «почвенниками» такой победы требовало отказа от их собственных – гораздо более широких – идеалов. Между тем приведённые В. Нечаевой факты свидетельствуют о том, что для Достоевского-редактора подобный отказ был невозможен.
Но ещё более немыслимым был и отход «влево». Уничижительная усмешка не ведающего компромиссов Писарева, который требовал очистить литературу «от таких худосочных прыщей, как… журнал “Эпоха”», грубая брань Антоновича, беззастенчивость приёмов и переход на личности – всё это свидетельствовало не только о разрыве старых журнальных связей, но и об раздроблении, измельчании самого предмета спора – верном признаке общественного застоя…
Прослеживая эту печально знаменитую полемику, В. Нечаева вовсе не склонна принимать на веру все те обвинения, которые обрушивали на «Эпоху» её идейные противники.
В этом смысле чрезвычайно любопытен очерк деятельности одного из основательно забытых критиков «Эпохи» – Н. Соловьёва. Н. Соловьёв, несомненно уступавший в литературном даровании таким писателям, как Ап. Григорьев и Н. Страхов (не говоря уже о Ф. Достоевском), «наивно» отстаивал в «Эпохе» тезис о «тождественности нравственного и эстетического начала», о том, что «между идеями морали и идеями красоты, между этикой и эстетикой нет существенной разницы». Разумеется, подобный взгляд, отвечавший, очевидно, чему-то самому сокровенному в «эстетическом» миросозерцании «почвенников», не мог получить поддержки «слева» – ввиду его явной неприменимости к текущим политическим обстоятельствам.
Но, с другой стороны, та же практическая неприменимость отвращала от «Эпохи» представителей правительственной власти. Привыкшая действовать весьма недвусмысленными средствами, она, эта власть, никак не могла взять в толк, почему в борении политических сил «против культуры должна стать культура», а не что-нибудь другое. «Верх» просто не мыслил подобными категориями (не этим ли, в частности, объясняются цензурные недоразумения со статьями вполне умеренного Н. Страхова?).
Двухтомная монография В. Нечаевой воссоздаёт очень существенные моменты в истории русского общественного сознания. Являясь наиболее полным и упорядоченным сводом фактических сведений о журналах, эти тома позволяют пристальнее вглядеться в истоки тех мучительных «разъединений», сквозь которые в 1860-х гг. прошла отечественная журналистика и которые «в снятом виде» перешли к началу следующего столетия – как бы образуя наследственные болевые точки русской общественной совести.
Глава 8
Остановите Парфёна
12 февраля 1907 г. Анна Григорьевна Достоевская, толкуя с одним из своих корреспондентов о важных для неё положениях авторского права («переделка повествовательного произведения в драматическую форму без согласия автора не допускается»), наставительно добавляет: «Я бы сказала, автора или его наследников по закону. Ведь не одному автору, а и его наследникам тяжело и обидно видеть, как художественные произведения обезображиваются переделками». (Благодарим Н. В. Паншева за предоставленную возможность ознакомиться с текстом этого неопубликованного письма.)
Вдову Достоевского нетрудно понять. Вообразим, однако, что её кошмарное пожелание было бы принято к исполнению. И «наследники по закону» взвалили бы на свои благородные плечи это семейственное бремя. Взыскательные потомки Пушкина имели бы тогда все основания отвергнуть, например, оперу Чайковского – за грубое искажение текста («Онегин, я скрывать не стану…» и т. д.).
Увы: единственным и неоспоримым «наследником по закону» всей мировой классики является не кто иной, как читатель. Но ведь и Анна Григорьевна в своём цензорском попечении апеллирует в том числе и к нему. «Я, – продолжает она, – страдала на представлении “Идиота” в Московском театре (уж не в Малом ли, где Настасью Филипповну играла М. Н. Ермолова, а Аглаю – А. А. Яблочкина? – И. В .), слыша отзывы публики: “Нет, это не Достоевский, это чёрт знает что! Ведь можно так испортить Достоевского? Пропал мой любимый роман и т. д.”».
«Пропал мой любимый роман!» – этот горестный вопль будет вечно исторгаем из чуткой читательской груди. Ибо решающим аргументом здесь является местоимение. « Мой Достоевский» – это столь же натурально, сколь дико, положим, звучало бы «моя Маринина» – при всех достоинствах последней.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: