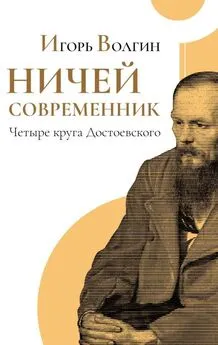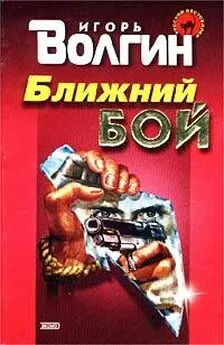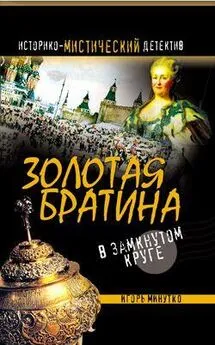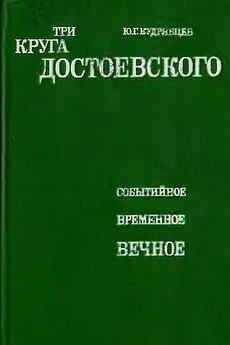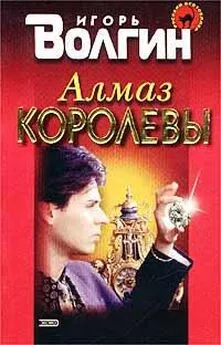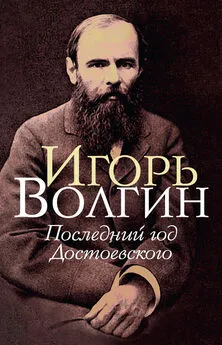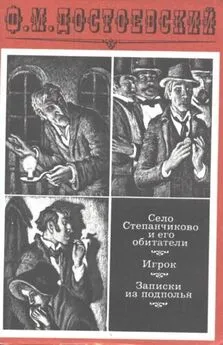Игорь Волгин - Ничей современник. Четыре круга Достоевского
- Название:Ничей современник. Четыре круга Достоевского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Нестор-История
- Год:2019
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-4469-1617-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Волгин - Ничей современник. Четыре круга Достоевского краткое содержание
На основе неизвестных архивных материалов воссоздаётся уникальная история «Дневника писателя», анализируются причины его феноменального успеха. Круг текстов Достоевского соотносится с их бытованием в историко-литературной традиции (В. Розанов, И. Ильин, И. Шмелёв).
Аналитическому обозрению и критическому осмыслению подвергается литература о Достоевском рубежа XX–XXI веков. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Ничей современник. Четыре круга Достоевского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Меньшинство рвалось в решительный бой; большинство жаждало «покоя и воли». Покоя – хотя бы относительного, но твёрдо гарантированного. Воли – хотя бы умеренной, личной, без давящего ярма бесконтрольного и самоуверенного деспотизма.
Это большинство должно было склоняться к какой-то идеальной схеме, примиряющей противоречия хотя бы в сфере духа, – как к исходному пункту всего остального.
Всего за месяц до 1 марта возможность безреволюционного выхода из революционного кризиса казалась вполне вероятной [345]. 1 февраля 1881 г. – в день погребения Достоевского – ещё позволительно было надеяться, что 1 марта может не наступить вовсе [346].
В этом смысле сами похороны автора «Карамазовых» представляют любопытнейший исторический феномен. Все партии склонили свои знамёна: факт невиданный, никогда прежде не встречавшийся и никогда потом, кажется, не повторявшийся.
По своему общественному содержанию эти похороны можно считать одной из примечательнейших в русской истории политических манифестаций.
Процессия, растянувшаяся от Кузнечного переулка до Александро-Невской лавры, как бы свидетельствовала о том, что «заветные убеждения» покойного писателя находят внушительный отклик, что «час соединения» уже пробил.
Всё это длилось только одну историческую минуту – и обернулось фантомом, призраком, грубейшим обманом зрения [347].
В набросках к февральскому «Дневнику» 1877 г. Достоевский писал: «У нас можно быть врозь, можно ужасно ругаться за убеждения, но столько искренности в желании добра и тёплой веры в обществе, в юном поколении. Вы ругаете всех, “всё проваливается”, но уже самая жаль и уныние свидетельствуют о горячем желании вашем устройства общего дела» [348].
Иными словами: чем резче критика существующего, чем глубже общественная самокритика, т. е. чем злее «жаль и уныние», тем необоримей «желание добра», тем сильнее уверенность, что ничто не останется в прежнем состоянии.
Неуспокоенность, своего рода общественный негативизм становится в глазах Достоевского самым верным залогом и источником общественного позитивизма.
«Согласны ли в определении общего дела ? – записывает он “для себя”. – Куда! Из-за этого-то и драка, но всё хорошо» [349].
Автор «Дневника» верно нащупал болевую точку, но недооценил серьёзность недуга. Пути русской интеллигенции разошлись, как известно, именно из-за несогласия «в определении общего дела». В 1876 г. Достоевский именовал себя «счастливым человеком», ибо ему казалось, что «общее дело» может стать действительно общим. Но ещё ошеломительнее выглядело заявление о том, что «наш демос доволен, и чем далее, тем более будет удовлетворен, ибо всё к тому идет, общим настроением или, лучше, согласием» [350].
Уж не кощунствовал ли автор «Дневника»?
Тут следует сделать одну оговорку. Конечно, «выигрышнее» привести цитаты совсем иного рода: остановиться, например, на острейших «антикапиталистических» высказываниях Достоевского. Но в данном случае мы намеренно подчеркиваем, казалось бы, самые уязвимые моменты. Ибо, как уже отмечалось, миросозерцание Достоевского рассматривается нами как единый идейный парадокс.
Как же совместить Достоевского с самим Достоевским? Несчастный мальчик, замерзающий в чужой подворотне, ямщик, корчащийся под ударами фельдъегеря, голодные матери в страшном сне Мити Карамазова – вот правда о том самом «демосе», который невероятнейшим образом вдруг оказывался «доволен».
Как, повторяем, совместить это «довольство» со «слезинкой ребёнка»?
X. Алчевская пишет в своих воспоминаниях, что на вопрос Достоевского о том, как относится Харьков к его «Дневнику писателя», она ответила, что первые номера были встречены хорошо; однако заявление о «довольстве демоса» вызвало всеобщий протест. «А много этих протестующих господ?» – спросил он. «Очень много!» – отвечала я. «Скажите же им, – продолжал Достоевский, – что они именно и служат мне порукой за будущее нашего народа. У нас так велико это сочувствие, что, действительно, невозможно ему не радоваться и не надеяться» [351].
Не только харьковчан покоробили слова Достоевского о «довольстве демоса». Некоему Д. В. Карташову из местечка Рядогощь это утверждение также показалось резко диссонирующим с общим пафосом «Дневника», что он и поспешил довести до сведения автора [352].
Достоевского, очевидно, очень взволновали эти упрёки. Он постарался ответить на них в следующем же номере.
«В самом деле, – говорит Достоевский, – если б этого общего настроения или, лучше, согласия не было даже в самых моих оппонентах, то они пропустили бы мои слова без возражения. И потому настроение это несомненно существует, несомненно демократическое и несомненно бескорыстное…» [353]
И тут мы опять сталкиваемся с поистине «роковой» идеей об исторической исключительности России – с тезисом, который на протяжении XIX столетия трансформировался в самые различные – иногда диаметрально противоположные – системы общественного сознания. Министр народного просвещения Уваров, славянофил Константин Аксаков и изгнанник Александр Герцен – каждый волен был вкладывать в это понятие свой собственный смысл.
«Свой» смысл был и у Достоевского: «В этом отношении мы, может быть, представили или начинаем представлять собою явление, ещё не объявлявшееся в Европе… Наш верх побеждён не был, наш верх сам стал демократичен или, вернее, народен, и – кто же может отрицать это? А если так, то согласитесь сами, что наш демос ожидает счастливая будущность» [354].
Натолкнувшись на эти слова, нынешний читатель, умудрённый вековым историческим опытом, лишь невесело усмехнётся.
Однако ретроспективная ирония мало помогает, когда необходимо понять, каким образом возникли и получили право на существование подобные – столь далёкие от истины – представления.
Вопросы, которые задавал Достоевский, были достаточно серьёзны. Они уходили в будущее. От их разрешения зависели судьбы народа, судьбы интеллигенции, судьбы России.
Русские социалисты – современники Достоевского – верили, что стране удастся избежать «язв пролетариатства», родовых судорог ненавистного им экономического уклада. Революционные преобразования должны были, по их мнению, найти опору в социалистических инстинктах русского крестьянства.
И Достоевский, и народники сходились на том, что нация обладает некой социально-нравственной чертой, которая будет способствовать глубокому и радикальному перевороту. Эта черта расшифровывалась русскими революционерами как сугубо социалистическая (стихийно-социалистическая), Достоевским – как сугубо христианская (стихийно-христианская). Таким образом, общее признание исторической исключительности раздваивалось, поляризовалось двумя внешне как бы противостоящими друг другу сферами общественного сознания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: