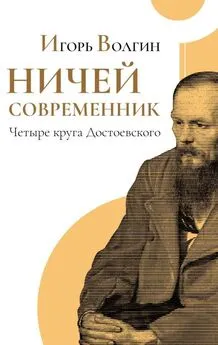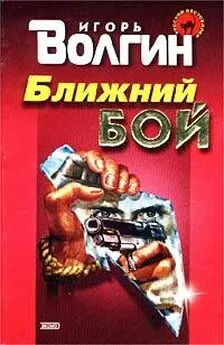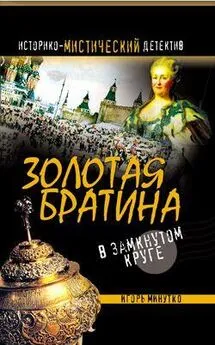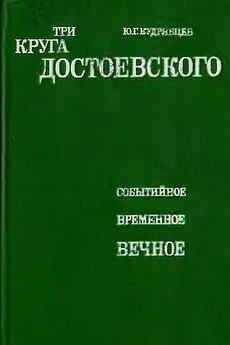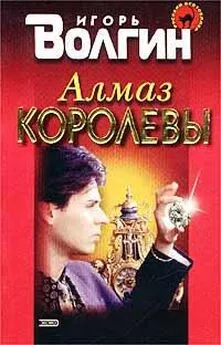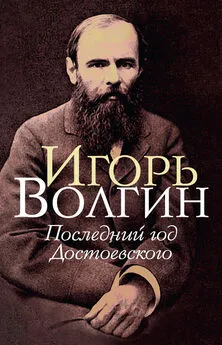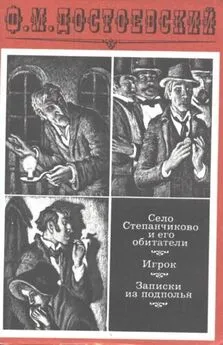Игорь Волгин - Ничей современник. Четыре круга Достоевского
- Название:Ничей современник. Четыре круга Достоевского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Нестор-История
- Год:2019
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-4469-1617-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Волгин - Ничей современник. Четыре круга Достоевского краткое содержание
На основе неизвестных архивных материалов воссоздаётся уникальная история «Дневника писателя», анализируются причины его феноменального успеха. Круг текстов Достоевского соотносится с их бытованием в историко-литературной традиции (В. Розанов, И. Ильин, И. Шмелёв).
Аналитическому обозрению и критическому осмыслению подвергается литература о Достоевском рубежа XX–XXI веков. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Ничей современник. Четыре круга Достоевского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Равным образом бесполезно было бы искать в «Опавших листьях» – в отдельных их фрагментах и «положениях» – каких-либо незыблемых идеологических ориентиров. «Опавшие листья», как и «Дневник», не складываются в «указание», в «учение», в тезис. Главное в них – это миронастроение, доверительность, интимность – та экзистенциальная тоска, которая приобщает читателя к миру высших смыслов. И Достоевский, и Розанов ставят личность автора в центр своего повествования (хотя, повторяем, у Розанова эта личность – «со всеми почёсываниями» – гораздо более «натуральна»).
Но это-то и коробит «официальную словесность». Вспомним негодование петербургской прессы относительно введения Достоевским сугубо частных мотивов в структуру «Дневника». Розанов фактически доводит этот важнейший художественный принцип до nec plus ultra. Для него частное существование гораздо важнее мировой политики, войн, революций, «судеб Европы» [543]. Он может подробно описывать, «как промочил ноги», и эти подробности способны вызвать литературный скандал. Но несмотря на журнальную ругань, читатель воспринимает эти «сообщения» как естественные и необходимые.
Ещё задолго до появления «Опавших листьев» Вл. Соловьёв назвал Розанова «юродствующим». Это вообще любимое словечко «прогрессивной критики» (к которой, впрочем, не относится сам Вл. Соловьёв). Отсюда – бесподобное ленинское определение Л. Н. Толстого: «помещик, юродствующий во Христе». Между тем в русской традиции юродство – едва ли не единственная ненаказуемая форма обличения власти, попытка говорить истину царям без улыбки [544](юродивый с его «нельзя молиться за царя Ирода» в «Борисе Годунове» и т. д.). Обвинение в юродстве или по меньшей мере в умственной неполноценности – общий «фирменный знак» критики, поносящей Чаадаева, Толстого, Достоевского, Розанова…
Мы уже приводили выше и хлёсткую аттестацию Дм. Минаевым «Дневника писателя» («Вот ваш “Дневник”… Чего в нём нет? // И гениальность, и юродство …»), и сентенции газетных критиков относительно «болезненных свойств» ума «г. Достоевского», несущего то «ребяческий», то «старческий» бред. Ярлык юродивого навешивается и на Розанова. «Но здесь уже мы стоим лицом к лицу с бредом пигмея, не видящего истинного уровня своих умственных сил и писательского таланта… За кошмаром словесной хулы ощущается даже нечистая какая-то психология автора, растрёпанная гадость мотивов… Он плещет в них (своих идейных противников. – И. В. ) брызгами своего гаденького порицания и смеха», «Ноздрёвская разнузданность – и ничего другого», «Всё это сплошной бред Розанова с отвратительным оттенком садизма» [545]. В. Полонский утверждает, что «в книгах Розанова запечатлелась душа обывателя до самых последних её глубин», что он – «гений обывательщины» и что «его последние книги – пошлейшие книги не только в русской, но, пожалуй, и во всей мировой литературе», а сам он – «Великий Пошляк» [546]. Л. Д. Троцкий без обиняков называет покойного писателя «заведомой дрянью, трусом, приживальщиком, подлипалой» [547]. И даже оставившая позже замечательные воспоминания о Розанове З. Н. Гиппиус (Антон Крайний) откликается на «Уединённое» следующим образом: «Нельзя! Нельзя! Не должно этой книги быть» [548]. И Розанов отвечает на этот страстный выпад с бесподобной искренностью и одновременно с иронией: «С одной стороны, это – так, и это я чувствовал, отдавая в набор. “Точно усиливаюсь проглотить и не могу” (ощущение отдачи в набор). Но, с другой стороны, столь же истинно, что этой книге непременно надо быть , и у меня даже мелькала мысль, что, собственно, все книги – и должны быть такие, т. е. “не причёсываясь” и “не надевая кальсон”. В сущности, “в кальсонах” (аллегорически) все люди не интересны» [549].
Впрочем, Розанов сам готов порой подыграть почтеннейшей публике и занять отводимую ему нишу. Его самоуничижительные (или, напротив, самовосхваляющие) характеристики – это литературные маски, правда, почти приросшие к лицу.
Позиционируя себя в качестве «маленького человека», Розанов демонстративно «присоединяется к большинству». Его лирический герой – это не только Ф. П. Карамазов (рассуждающий, положим, о «мовешках») или Подпольный. В нём можно обнаружить черты и Свидригайлова, и Раскольникова, и Ставрогина, и Ивана Карамазова. И, может быть, даже ещё одного «юродивого» – князя Мышкина. Скорее всего, именно эта многоликость Розанова, глубокое переживание им относительности любых точек зрения делало возможным столь возмущавшее современников его сотрудничество во враждебных друг другу органах печати – с обнародованием прямо противоположных точек зрения (что в случае с автором «Дневника писателя» совершенно исключено).
Розановский протеизм – одно из условий его литературной игры, «следственный эксперимент», доказывающий относительность истины. Правда, это касается преимущественно политики и в некотором смысле христианства. Применительно к онтологии (т. е. к сущностным, бытийным вопросам – о Боге, поле, семье, России и т. д.) «точка зрения» Розанова, как правило, не меняется. Более того – в «Опавших листьях», так же как и в «Дневнике писателя», при всей внутренней противоречивости представляется возможным выделить некий императив, некое нравственное ядро, которое «держит» текст [550].
Именно здесь в первую очередь возникает перекличка. Вспомним рассуждения Достоевского в «Дневнике писателя» о «сдирании кож»: «…если не сдирают здесь на Невском кожу с отцов в глазах их детей, то разве только случайно, так сказать, “по не зависящим от публики обстоятельствам”, ну и, разумеется, потому ещё, что городовые стоят».
Причём «ещё неизвестно, где бы мы сами-то очутились: между сдираемыми или сдирателями?»
Пройдёт сорок лет – и тот же мотив возникнет в «Апокалипсисе нашего времени», в первом же его выпуске: «Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60 “и такой серьёзный”, Новгородской губернии, выразился: “Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть”. Т<���о> е<���сть> не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из его кожи ленточку за ленточкой. И что́ ему царь сделал, этому “серьёзному мужичку”».
Пройдёт ещё несколько месяцев. Царская семья будет уничтожена, и главный исполнитель Яков Юровский расскажет об этом следующими словами: «Я вынужден был поочередно расстрелять каждого… Рабочие… выражали неудовольствие, что им привезли трупы, а не живых, над которыми они хотели по-своему поиздеваться, чтобы себя удовлетворить». Подлинность розановского наблюдения засвидетельствована документально. «Вот и Достоевский… Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и “Война и мир”» [551], – так завершает Розанов свою запись «о сдирании кож». Вряд ли это прямая ссылка на «Дневник писателя»: тем поразительнее совпадение [552].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: