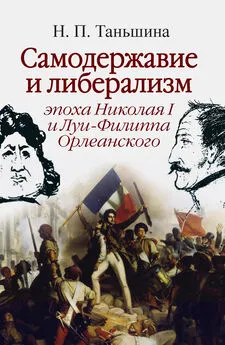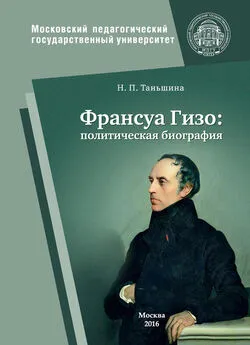Наталия Таньшина - Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres]
- Название:Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8243-2243-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Таньшина - Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres] краткое содержание
Отношения между странами – это отношения между народами. С одной стороны, неприятие российским императором Июльской монархии, а также линия на свертывание двусторонних контактов только подогревали интерес русского человека к Франции. С другой стороны, к России и русским французы, особенно после Июльской революции и подавления Николаем I Польского восстания, испытывали, как правило, крайнюю настороженность, временами переходившую в откровенную русофобию. Почему нас не любили? Связано ли это было с глубинными цивилизационными отличиями или же антирусские настроения подогревались активной внешней политикой Российской империи? Любовь же русского человека к Франции была неизбывной. Даже несмотря на то, что порой она была безответной…
Книга предназначена для историков и всех, кто интересуется историей Франции и России.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Принимая слишком отвлеченно принцип «laisser faire», орлеанисты мало обращали внимания на торгово-промышленные интересы, мало заботились о положении низших слоев общества. «Я могу только сожалеть о вас», – говорил Луи-Филипп эльзасским рабочим, жаловавшимся на недостаток работы [112]. Такие заявления короля вписывались в рамки общего подхода к социальным проблемам, доминировавшего в Европе первой половины XIX в. Классический экономический либерализм не подразумевал активной социальной политики. Во-первых, по твердому убеждению либералов, государство должно лишь создавать благоприятные условия для бизнеса (отсюда главный лозунг орлеанистов – «Порядок и свобода!»), но не вмешиваться в естественный ход вещей и закономерности рынка. Во-вторых, у государства тогда не было средств для активной социальной политики. Поэтому либералы-орлеанисты полагали, что государство не должно обременять себя социальными функциями, считая их уделом частных лиц или благотворительных организаций. Как полагал Ф. Гизо, улучшение материального благосостояния основной массы населения зависело прежде всего не от государства, а от самих людей. Он писал в «Мемуарах»: «Долг правительства заключается в том, чтобы прийти на помощь обездоленным классам, помочь им укрепить их усилия в их растущем стремлении к благам цивилизации. В этом нет ничего более очевидного и более святого. Но это должно делать не государство, а сами люди» [113].
Было бы неверно утверждать, что правительство Луи-Филиппа ничего не сделало в социальной сфере. 22 марта 1841 г. король обнародовал закон о детском труде на мануфактурах, заводах и в мастерских, согласно которому запрещался ночной труд детей и ограничивалась продолжительность рабочего дня восемью часами для детей в возрасте от восьми до двенадцати лет и двенадцатью часами – для подростков в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет.
Если в России важнейшим вопросом был крестьянский, вызывавший наибольшие споры и дискуссии, то во Франции такой проблемой являлось реформирование избирательной системы. Именно отказ правительства Луи-Филиппа от проектов реформирования избирательной системы во второй половине 1840-х гг. вызвал наиболее острую критику со стороны оппозиции. Вопрос о расширении избирательного корпуса занимал Луи-Филиппа и его министров с первых дней после Июльской революции. Основные принципы новой избирательной системы были намечены в Хартии 1830 г. и окончательно закреплены в избирательном законе от 19 апреля 1831 г. Эта реформа почти вдвое увеличила число избирателей по сравнению с периодом Реставрации. Избирательный корпус составлял 166 813 избирателей, плативших 200 франков прямых налогов, 1262 избирателя, плативших менее 200 франков, и 668 «способных» – всего 168 813 человек, то есть немногим более пяти избирателей на одну тысячу жителей [114].
Для современников, привыкших за годы Реставрации к медленному, но постепенному сокращению числа избирателей, это увеличение стало настоящим потрясением. Хотя Франция далеко отставала от Великобритании и Бельгии по числу избирателей на одну тысячу жителей, в целом тенденция была прямо противоположной тому, что происходило в годы Реставрации.
В то же время орлеанисты не предполагали дальнейшего реформирования избирательной системы, являясь приверженцами цензовой демократии и жестко увязывая собственность и политические права. По твердому убеждению либералов, начиная с Бенжамена Констана, только собственность, предоставляющая достаточный досуг, давала человеку возможность осуществлять политические права. Осторожное отношение либералов к идее всеобщего избирательного права диктовалось их уверенностью в том, что эффективно участвовать в общественной жизни может лишь человек, способный принимать ответственные решения, обладающий в силу своей достаточной образованности необходимой политической грамотностью, в силу оседлости – интегрированный в реальные социальные структуры, в силу устойчивого материального достатка – имеющий конкретные личные интересы и не склонный к опасному для общества радикализму.
Без всяких реформ к 1846 г. число избирателей достигло 240 983 человек, то есть увеличилось на 45 % по сравнению с 1814 г. [115]Это расширение избирательного корпуса явилось, с одной стороны, следствием роста численности населения Франции: с 1831 по 1846 г. с 32,5 млн до 35,4 млн человек. Однако этот рост составил всего лишь 9 %, в то время как число лиц, пользующихся избирательным правом, возросло до 45 %. Эти цифры говорят о том, что расширение численности избирательного корпуса было следствием роста экономического благосостояния граждан; очевидно, режим Июльской монархии создавал благоприятные условия для развития их экономической активности. Однако оппозиция не была готова к такому медленному, эволюционному развитию; если в 1830-е гг. она выступала только с требованиями расширения избирательного права, то во второй половине 1840-х гг. уже требовала провозглашения всеобщего избирательного права во Франции. К тому же немало разбогатевших торговцев и промышленников так и остались за бортом цензовой системы, поскольку в расчет принимались не размеры богатства вообще, а уплачиваемые налоги, главным образом с недвижимого имущества (земельной собственности).
Итак, подведем итоги. Николай I отнюдь не был реакционером, каким его часто изображали политические противники. Он был консерватором, но «консерватором с прогрессом», способным к определенным умеренным реформам сверху, которые готовились постепенно, без заигрывания с общественным мнением. Либеральная бюрократия, подготовившая и осуществившая реформы Александра II, сформировалась именно в николаевское время. Большинство соратников Николая I могли эффективно действовать в рамках сложившейся системы, которую они зачастую сами и создавали. Впрочем, несменяемость власти, стремление законсервировать существующие порядки в российских условиях ни к чему хорошему не приводили. Дополненные николаевской тягой к невероятной централизации, эти факторы в итоге и привели Россию к кризису середины 1850-х гг. [116]
Николай I одним из последних в истории России государей пытался держать все под личным контролем. Однако такой управленческий подход во многом был архаичным. Уже в те времена было ясно, что один человек в масштабах современного на тот момент государства попросту не мог контролировать абсолютно все. Николая часто и банально обманывали все – от хитрых старообрядцев до собственного сына Константина (чтобы папа́ не узнал) [117]. Как писала баронесса М.П. Фредерикс, «император Николай был жестоко обманут своими окружающими…» По ее словам, Николая упрекали в том, что страх, внушаемый его суровостью, заставлял его обманывать. Однако, как полагала баронесса, страх и обман «существуют, к сожалению, в нашей крови русской» [118].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Наталия Таньшина - Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres]](/books/1150356/nataliya-tanshina-samoderzhavie-i-liberalizm-epoha-nikolaya-i-i-lui-filippa-orleanskogo-litres.webp)

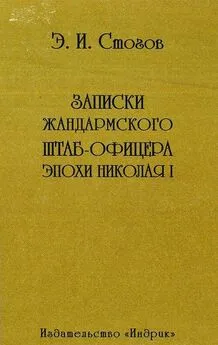
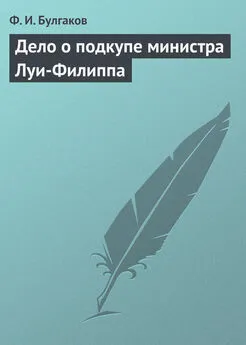

![Луиза Кэндлиш - Наш дом [litres]](/books/1066307/luiza-kendlish-nash-dom-litres.webp)
![Наталия Таньшина - Франсуа Гизо: политическая биография [litres]](/books/1066752/nataliya-tanshina-fransua-gizo-politicheskaya-biogra.webp)
![Луиза Дженсен - Свидание [litres]](/books/1071030/luiza-dzhensen-svidanie-litres.webp)
![Луиза Дженсен - Подарок [litres]](/books/1085600/luiza-dzhensen-podarok-litres.webp)