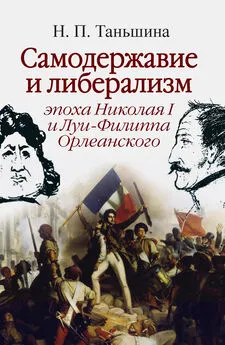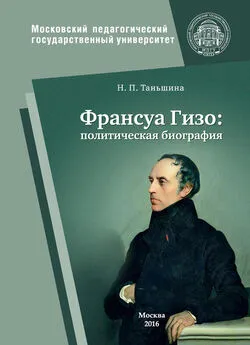Наталия Таньшина - Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres]
- Название:Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8243-2243-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Таньшина - Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres] краткое содержание
Отношения между странами – это отношения между народами. С одной стороны, неприятие российским императором Июльской монархии, а также линия на свертывание двусторонних контактов только подогревали интерес русского человека к Франции. С другой стороны, к России и русским французы, особенно после Июльской революции и подавления Николаем I Польского восстания, испытывали, как правило, крайнюю настороженность, временами переходившую в откровенную русофобию. Почему нас не любили? Связано ли это было с глубинными цивилизационными отличиями или же антирусские настроения подогревались активной внешней политикой Российской империи? Любовь же русского человека к Франции была неизбывной. Даже несмотря на то, что порой она была безответной…
Книга предназначена для историков и всех, кто интересуется историей Франции и России.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По словам политического и военного деятеля тех лет маршала Э. Кастеллана, «диктат министров для него был невыносим. Он всегда пытался плести интриги и вмешиваться в дела» [130]. Король как-то сказал герцогине Доротее де Дино, племяннице и на протяжении двадцати с лишним лет спутнице жизни Ш.-М. Талейрана: «Знаете мадам, чтобы все шло хорошо, надо, чтобы я был управляющим всего, и в то же время, чтобы мне лично ничего не принадлежало» [131].
Королю было сложно совершать назначения на важнейшие посты, поскольку приходилось прислушиваться к мнению главы кабинета или министров. По этой причине некоторые важные дипломатические посты в начале царствования Луи-Филиппа в течение многих месяцев оставались вакантными. Один из ярких французских политиков тех лет Одилон Барро отмечал в своих «Мемуарах», что, хотя Луи-Филипп «имел искреннее убеждение в необходимости представительных учреждений для Франции, был решительно настроен уважать произнесенную им клятву, однако в его характере имелись черты, очень мало совместимые с условиями существования этих институтов». По словам Барро, в короле сочетались «странная смесь буржуазной простоты и потребности доминировать; философский ум, более чем свободный в некоторых отношениях, и предрассудки рождения; революционные страсти и необдуманный страх перед революцией…» [132]
Луи-Филипп был королем в высшей степени умным, активным, но властным и мелочным. Он хотел решать все дела сам, вмешиваться во все детали; суть его правительственной системы заключалась в том, чтобы управлять Францией с помощью, а не посредством палат. Российский чиновник Чубаров, посетивший Францию в 1837 г. и оставивший весьма интересные наблюдения о Луи-Филиппе, писал: «По наружности кажется, что Луи-Филипп не имеет никакого влияния на ход дел государственных, что все преимущества его заключаются в одном королевском титуле и в некоторых, весьма ограниченных правах, по Хартии 1830 года ему предоставленных. Но в самом деле, едва ли не выходит противное… он, имея на своей стороне президента палаты депутатов, распространил права конституционного короля далеко за пределы Хартии… Луи-Филипп делает, что хочет, или, лучше сказать, держит обе палаты, и депутатов, и пэров в таком положении, что они не делают только того, чего он не хочет: поспорят, пошумят, а всегда окончится так, как он предполагает» [133].
Период с 1840 г., а именно с момента формирования министерства 29 октября под руководством Николя Сульта, а фактически Франсуа Гизо, занимавшего с 1840 по 1848 г. пост министра иностранных дел, а в 1847 г. ставшего главой правительства, многие исследователи называют «личным правлением короля». Как писал Ф.-Р. Шатобриан, «Филипп поработил всех своих приближенных; он надул своих министров: назначил их, потом отставил, снова назначил, скомпрометировал, – если сегодня что-нибудь еще может скомпрометировать человека, – и снова отстранил от дел» [134].
Сын короля принц Жуанвильский писал своему брату герцогу Немурскому: «Нет больше министров; их ответственность равна нулю; все дела восходят к королю; все это дело короля, который извратил наши конституционные учреждения» [135].
Луи-Филиппа, однако, мало беспокоили упреки и обвинения в том, что он сконцентрировал в своих руках всю полноту власти и даже, по словам Н.Г. Чернышевского, «успел обратить в такую машину Гизо, человека с великими талантами, поддавшегося хитрым обольщениям, воображавшего, что управляет Луи-Филиппом, между тем как Луи-Филипп водил его за нос» [136].
К концу 1840-х гг. король был упрям как никогда прежде. Он был убежден, что его «система», как он говорил, была правильной, что никто на самом деле не желал реформ, что кризис был вызван язвительными агитаторами, что народ его любил, а Национальная гвардия была его самой надежной опорой и такой же преданной ему, как в 1830 г.
Распорядок дня монархов. В кругу семьи
Император Николай был записным трудоголиком. Просыпался он ежедневно в пять-шесть утра, принимал холодный душ, выпивал чашку черного кофе, набрасывал на плечи шинель, шел на прогулку в сад с верным пуделем и возвращался в кабинет. Петербуржцы, проходившие по набережной Невы мимо Зимнего дворца, могли видеть государя, сидящего в кабинете при свете четырех свечей и работающего с бумагами. Еще до завтрака он успевал управиться с множеством дел: выслушать доклады о происшествиях в столице, просмотреть фельдъегерскую почту, на свежую голову решить дела. Пунктуальность государя была известна всем. Время каждого визита заранее рассчитывалось до минуты. Все документы были расставлены по порядку, подписаны. Ни одна бумага не лежала просто так.
Решив самые неотложные дела, Николай съедал легкий завтрак и шел поздороваться с императрицей и поцеловать детей. Затем принимал еще нескольких генералов, наводил справки в личных делах и к часу или двум, всегда один, выходил в город проверить работу каких-либо учреждений, провести смотр гвардейского полка, снять пробу с солдатского котла или просто подышать столичным воздухом. Его силуэт был привычен прохожим, которые уважительно снимали шляпы, издалека увидев его сидящим в маленьких санях или коляске. Было запрещено подходить на улице к государю, чтобы подать прошение. Весьма курьезный случай описал француз Шарль Сен-Жюльен, с которым нам еще предстоит познакомиться. Как-то Николай Павлович прогуливался по Невскому проспекту и в приветствовавшей его толпе заметил актера французского театра Верне, которому весьма симпатизировал. Государь обратился к нему с несколькими фразами, после чего удалился, будучи уверенным, что вечером насладится его игрой. А бедного француза городовой отправил в участок, поскольку тот невольно вступил с Николаем Павловичем в диалог. Вечером, во время спектакля, царь понял, что произошло, когда не увидел на сцене любимого артиста и когда ему доложили, что тот исчез. Он приказал немедленно освободить актера, извинился перед ним и спросил, что он может для него сделать. Верне же ответил в духе Сократа, попросив государя больше не заговаривать с ним на улице [137].
После полудня государь отправлялся осматривать учебные заведения или присутственные места. Кроме прогулок, ежедневно в быстром темпе повторял сложные приемы с оружием, служившие ему своеобразной гимнастикой.
Обед для узкого семейного круга, начинавшийся в промежутке от пятнадцати до шестнадцати часов, проходил в маленькой столовой, украшенной фресками из Помпеи. Кроме Николая и его близких, еще лишь трое или четверо допускались к столу: Бенкендорф, Орлов, министр двора генерал князь Волконский, Паскевич, Мейендорф. Французский повар комментировал подаваемые блюда, а император, придумавший это, весело улыбался. Любимыми кушаньями монарха считались овощные супы, котлеты и каши в горшочках. Николай ел мало и быстро, пил только воду и ждал десерта, чтобы насладиться бокалом рейнского вина. Во время строгого поста его меню состояло из рыбы и овощей. По вечерам он чаще всего с большим удовольствием съедал суп «парментьер». Разговор за столом, как правило, велся по-русски или по-немецки. Говорили о дворцовых интригах, последних спектаклях, реже – о политике. После обеда Николай опять работал в кабинете, а в половине восьмого пил чай с семьей и готовился к вечернему выходу в «свет», в театр.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Наталия Таньшина - Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres]](/books/1150356/nataliya-tanshina-samoderzhavie-i-liberalizm-epoha-nikolaya-i-i-lui-filippa-orleanskogo-litres.webp)

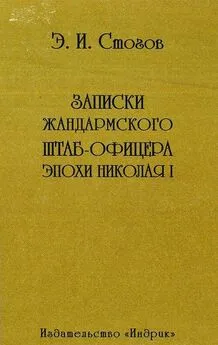
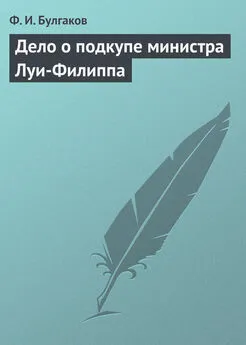

![Луиза Кэндлиш - Наш дом [litres]](/books/1066307/luiza-kendlish-nash-dom-litres.webp)
![Наталия Таньшина - Франсуа Гизо: политическая биография [litres]](/books/1066752/nataliya-tanshina-fransua-gizo-politicheskaya-biogra.webp)
![Луиза Дженсен - Свидание [litres]](/books/1071030/luiza-dzhensen-svidanie-litres.webp)
![Луиза Дженсен - Подарок [litres]](/books/1085600/luiza-dzhensen-podarok-litres.webp)