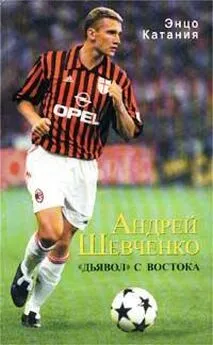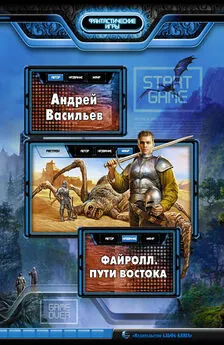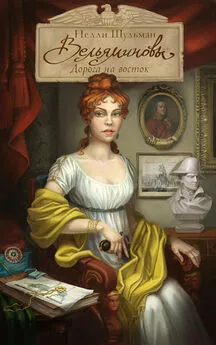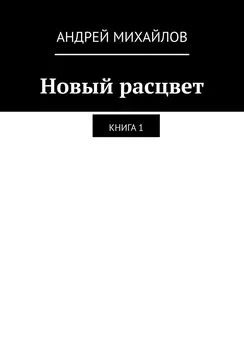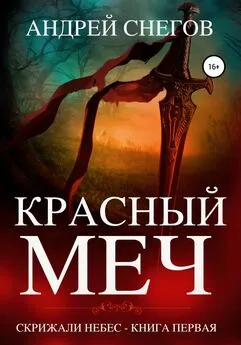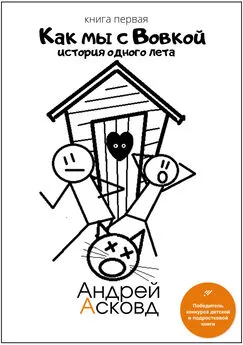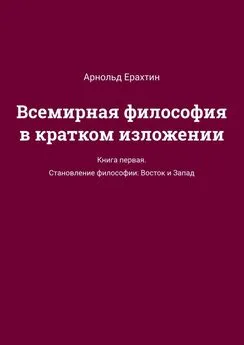Андрей Михайлов - К западу от Востока. К востоку от Запада. Книга первая
- Название:К западу от Востока. К востоку от Запада. Книга первая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005163011
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Михайлов - К западу от Востока. К востоку от Запада. Книга первая краткое содержание
К западу от Востока. К востоку от Запада. Книга первая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Согласно летописным данным, три брата-варяга, прибывшие княжить в славянские земли, «расселись» отдельно. Старший, Рюрик , выдержав пару лет в Ладоге, переехал в Новгород. Средний – Синеус , отправился в далёкое Белоозеро, где обитали и не славяне даже, а финоязычные веси. Младшенькому, Трувору , достался кривичский город Изборск.
Как и всё малопонятное, история трёх братьев окружена плотной завесой догадок и легенд. Многие учёные думают, что вообще-то случилась путаница при переводе, и изначально речь шла о призвании одного-единого Рюрика. Действительно, нужно ли было огород городить, проявлять стремление к стабильности и тягу к государственности, сажая на свою голову сразу трёх соправителей?
Хотя, может быть, всё не так просто. Меня, например, настораживают два первых года варяжского княжения. Те, что Рюрик просидел в Ладоге. Синеус – в Белоозере. А Трувор – в Изборске. Так вот, через два года два брата почти одновременно скончались, а третий переселился в региональную столицу – Новгород. Словно выдержав некий отборочный конкурс.
О Рюрике мы поговорили, Синеуса придётся пропустить вообще (о нём почти ничего не известно, да и археологи не могут найти в Белоозере слоёв, приличных варяжскому времени), а вот Трувор и его вотчина заслуживают особого интереса и разговора.
Крест язычника
…Каждый год 9 мая кладбища Псковщины заполняются людьми. В этом обильном нашествиями и сражениями крае свежие могилы никогда не зарастали травой. Но жатва последней мировой войны была особо обильной, и даже на фоне всех предшествующих. Потому так людно в дни памяти на местных погостах и кладбищах, ощетинившихся жёсткими цветами крестов и звёзд. В светлой сени радостных весенних рощиц, радующих глаз дымкой свежей зелени, будоражащих обоняние запахом цветущей сирени и черёмухи, ласкающих слух пением скворцов и дроздов, бродят тихие и морщинистые старушки. Они – родные сестры Времени, вечные вдовы России – в такие дни главные персоны на многочисленных местных могилах.

Не составляет исключения и старый погост Старого Изборска, небольшого (по количеству жителей) и великого (по своей истории) села, в 30 километрах от Пскова. Светло-тенистый элизиум с буйноцветущей сиренью, неугомонными птицами, тихими старушками и лабиринтом железных оград – такой же, как тысячи и тысячи других. Такой – да не такой. Это понимаешь сразу, как только натыкаешься на Крест. Крест, вырезанный из цельного куска серого камня, похожий на раскинувшего руки странника в выцветших одеждах, такой огромный, что, стоя рядом, приходится подымать голову. Надгробные памятники современных могил, со всех сторон обступающие Крест, выглядят в его суровом соседстве даже как-то весело и легкомысленно. И не мудрено. Ведь это – Труворов крест. Поставленный на Труворовой могиле. Рядом с Труворовым городищем.

И хотя понимаешь, что Крест вряд ли имеет прямое отношение к язычнику-варягу, и знаешь, что возраст памятника не более каких-то пяти столетий, а всё равно заворожённо обмираешь пред его разверзнутыми каменными объятиями и стоишь дураком, словно у раскрытого фолианта на утраченном языке.
Городище
Труворова могила – у входа в Труворов город. И современное кладбище вовсе не заканчивается тут, как сначала кажется, а начинается отсюда. Несколько древнейших могил, рядом с той, что увенчана Крестом, вросшие в землю каменные плиты с непонятными знаками, это, по поверию, погребения тех дружинников-варягов, что явились вместе с Трувором. Они и ныне, словно чародейная стража некоей заклятой страны, что начинается сразу, как только тропа минует охраняемые ими невидимые врата.
Когда-то тут действительно были ворота древнего города Изборска. Того, что, по мнению Летописца, существовал ещё прежде самого Пскова. Сейчас от тех укреплений, в которые вели ворота, остался лишь оплывший вал и неглубокая балка, в которой с трудом можно угадать остатки рва.
Всё невеликое пространство Труворова города, ныне густо замуравленное пахучими травами и малоотделимо взглядом от окружающего пейзажа. Стоящая посередине этого сугубого археологического комплекса одинокая белостенная Никольская церковь, похожая издали на огромную русскую печь, оставшуюся от разрушенного дома, лишь усугубляет грустное ощущение невосполнимости утраты. Церковь выглядит очень древней, хотя ей от роду всего-то два-три столетия, и появилась она тут гораздо позже, чем закончилась жизнь того Изборска.
Единственное, что вызывает недоумение у каждого входящего в невидимые ворота невидимого города, это его непонятное положение. Для чего было городить город (да ещё спешить сделать это раньше Пскова) на таком плоском, незащищённом и невразумительном месте? Впрочем, всё становится понятным, стоит лишь пройти мимо белых стен собора. Кажется, что почва у тебя под ногами расползается сказочной страной, потерянной в огромной расщелине Земли. Становится понятным – что охраняет Труворов крест.
Затерянный мир Изборской долины
Чувство, какое испытываешь каждый раз, выходя на край Изборской котловины, для меня всегда оборачивается сильным потрясением. Я бывал тут не только весной, когда все цветёт, поёт и дерзит, но и осенью, во время увядания, умирания и тишины. Глубинное воздействие этого места столь велико, что даже воспоминания о нём способны довести до лёгкой дрожи.

Изборская котловина – воплощённая сказка. Сказка про Русь. Про ту, которой, может быть, никогда и не существовало за пределами воображения. Там на дне есть всё, что включает в себя сказочный образ страны, и всё – в миниатюре, а оттого такое уменьшенно-ласковое – лесочки, речушки, деревеньки, церквушки, деляночки, озерки и т. п. Трудно представить, чтобы в этом зачарованном мирке не осталось каких-нибудь «невиданных зверей», волков-оборотней, запертых кощеями «красных дев», избушки Бабы Яги, богатырей, чешущих затылки перед камнями на распутьях и прочих персонажей, знакомых с детства по любимым сказкам.
Впрочем, я несколько удалился от нашей тропы охваченный собственными эмоциями (да простится мне сия слабость), но и она ведёт нас именно туда, на дно Изборской котловины, к сияющей ряби крохотного Городищенского озера, с замершей лодкой рыбака на середине. Именно сюда в стародавние варяжские времена и прибыли однажды хищноносые ладьи дружного Труворова воинства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: