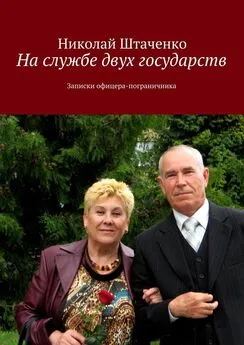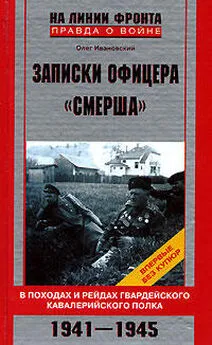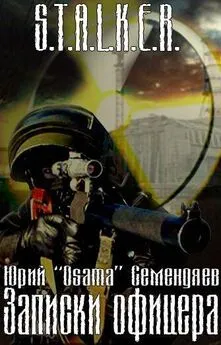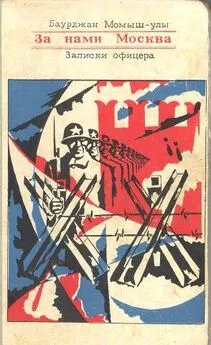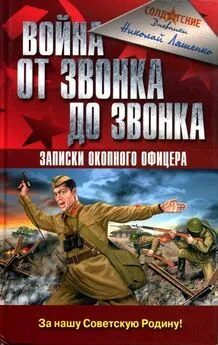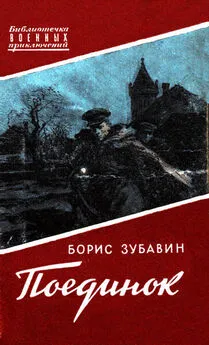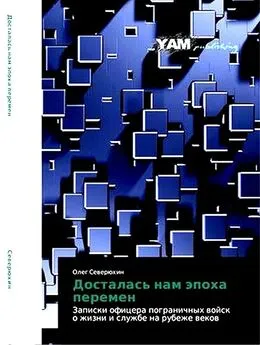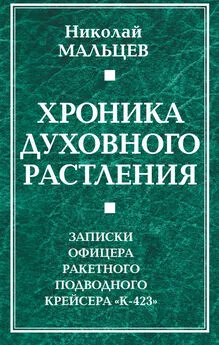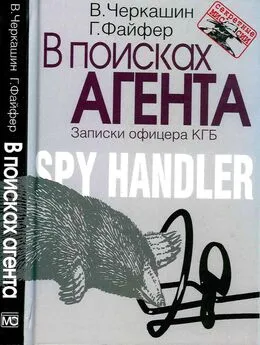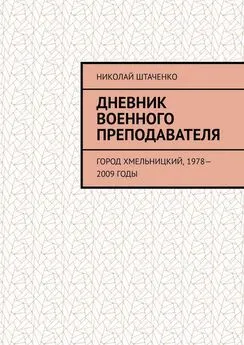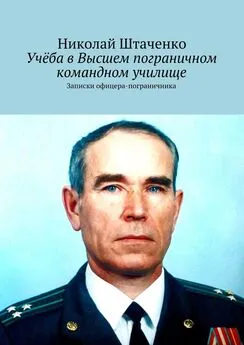Николай Штаченко - На службе двух государств. Записки офицера-пограничника
- Название:На службе двух государств. Записки офицера-пограничника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449079138
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Штаченко - На службе двух государств. Записки офицера-пограничника краткое содержание
На службе двух государств. Записки офицера-пограничника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
12 января 1947 года в семье Штаченко Николая Ефимовича рождается ребенок – сын, которого назвали Николаем. Значит это – я.
В 1947 году мои родители получили посылочку с Германии, точнее, небольшую шкатулку, в которой находились фотографии моего дяди Алексея и письмо его друга. В письме друг дяди Алексея писал, что они долго лежали в госпитале на излечении и там дядя Алексей умер.
Мое детство
Родился я в голодный 1947 год. Рождался я дома, на печке, под освещением керосинового каганца, сделанного с гильзы 75 мм снаряда. Во время перевязывания пупка, отец зацепил каганец локтем, «лампа» упала и затухла. Отец в потемках еле отыскал спички, чтобы вновь зажечь каганец. Пока все это он делал с моего пупка убежало много крови. Вот в таких условиях я рождался. Как раз заканчивался второй год после окончания Второй мировой войны.
Украина после войны вся была в руинах, еще не залечила раны. От налогов была не освобождена. Все собранное зерно и мясные продукты в 1945 и 1946 годах отправлялись во вновь образованные Восточно-европейские страны Народной демократии, которые попали под контроль Советского Союза. В украинских городах еще действовала карточная система на продукты питания. А в селах люди выживали, как могли. Хлеба не было, домашней живности после войны то же не осталось.
Чем же питались люди в селах?
С овсяной или пшеничной половы, а если этого не было, то с перекати поля, пекли какие-то лепешки. Летом еще ели рогоз – это болотный камыш, с которого очищали листья, а мягкую внутренность ели. Летом на скошенных и невспаханных полях селяне собирали колоски пшеницы и ячменя; осенью на убранных и вспаханных полях собирали редьку, картошку, морковь. Приходилось собирать быстро и прятаться в посадках, так как налетали объездчики и разгоняли людей нагайками.
Наша семья, начиная с весны 1947 года, выживала за счет сусликов. Старший брат, Виктор, весной брал пару ведер в руки и шел на зеленые луга поближе к болотам – там он выливал водой сусликов. К концу дня приносил штук по двадцать, снимал с них шкурки, а мама затем мясо жарила на сковородке, и дети кушали это мясо. Суслики были жирные, так как питались травкой и зерном. Рассказывали, что и я, будучи еще очень маленьким, брал лапку суслика и с аппетитом ее смаковал. Через две хаты от нас жил, контуженый на войне, старый дед – Ляцкий; он приходил к нам и просил сусликов. С ним делились мои родители. Подобным образом выживали и другие селяне.
Отец, и другие жители нашей улицы, работали от зари до зари: кто в совхозе, а кто в колхозе. Оплата за работу была мизерная. Отец работал до 1956 г. в совхозе, получал 100 рублей аванса и 100 рублей получки (деньгами до реформы 1961 г.). В то время один детский хлопчатобумажный костюмчик или детские кирзовые сапожки стоили по 100 рублей. За эти деньги всех нас обуть и одеть родителям было невозможно. Поэтому наша семья разводила курей, кроликов, коз, а в конце 50-х годов, и гусей. Осенью забивали кроликов, резали курей, гусей, и мама везла мясо на продажу на базар в г. Каменское; шкурки кроликов сдавали в заготовительную контору. На заработанные, таким образом, деньги покупали детям одежду, обувь и. т. п.
Законы того времени были строгие. Контроль за государственной собственностью был жесткий. Часто, бывало, на поля или совхозный ток, где работали бригады селян, могла нагрянуть районная милиция для проверки и обыска работников.
Однажды, в результате такой проверки и обыска людей на зерновом току, у женщины – Озерной Веры (будущей свахи моих родителей) – с карманов вытрясли полтора килограмма зерна. Несмотря на то, что у нее было двое детей, а меньшему, Алексею, не было и полутора лет, – припаяли ей полтора года тюрьмы. Так она, от звонка до звонка, и просидела свой срок.
Живя в таких сложных и нищенских условиях, многочисленная детвора нашего семейства питалась скудно и ходила, кто в чем: младшие донашивали одежду и обувь старших; зимней обуви у всех не было. Для выхода на улицу в холодное время, приходилось, иногда, напяливать сапоги старших братьев или отцовскую обувь. Когда наступал теплый сезон, – бегали босиком, даже приходилось ходить босиком в школу.
Кстати, каждое подворье облагалось налогами. Несмотря на наше большое семейство, – нас никто от налогов не освобождал. Была у нас корова, – налог сдавали молоком, где-то литров на 100; на свинью, на коз так же выписывали страховки. Приходил чиновник с сельсовета, везде заглядывал, проверял, считал и выписывал квитанцию для оплаты. Даже подлежали обложению налогом фруктовые деревья. А фруктовые деревья, бывало, какой год дают урожай, а какой – ничего нет, а налог надо платить каждый год. В силу этого, люди на приусадебных участках вырубали фруктовые деревья, чтобы не платить на них налог.
Нас в семье выручала корова по имени Голубка. Но молоко давала она ведь не круглый год. Месяца за три до отела, мама прекращала ее доить: молока уже было совсем мало и на вкус было очень горькое. Телилась она у нас где-то в феврале или начале марта. В это время было еще холодно, и теленка заносили в нашу хату, подстилали в одном углу ему солому, и он мог в хате проживать недели три-четыре, то есть до наступления теплого времени. До коровы, сосать молоко, его не приучали – давали ему пить молоко с ведра.
Каждую осень родители приобретали поросенка, и через год он вырастал и готов был для забоя. Корову держали в сарае-коровнике, коз – в маленьком сарайчике. А свиней, в первые 5—7 послевоенных лет, держали в яме.
Что я помню о себе и какое было мое детство?
Когда мне исполнился один годик, то постоянной нянькой у меня была старшая сестра Люда, которой еще не было и 8-ти лет. Сознательно я помню кой-какие факты и события, начиная с полутора лет.
Вот, когда мне было полтора года, а это было лето 1948 г., – стоял я возле дороги поблизости соседского двора, в оной рубашонке, без штанов (сестра с подружками играла в нескольких десятках метров от меня). Подошел ко мне старый дед с мешком под мышкой, спрашивает: «Мальчик, как тебя зовут и чей ты?» Я молчу.
Дед раскрывает мешок и говорит: «Садись в мешок!» Берет меня, сажает в мешок, – я молчу; закрывает, берет мешок на плечи, несет меня, – я все молчу. Пронес метров 50, опустил мешок на землю, раскрыл, выпустил меня, – я не издал ни единого испуганного крика. Этот случай долго помнили родители и наши соседи.
В то послевоенное время почти все семьи, проживающие на нашей улице, имели коров. Начиная с конца апреля, коровы чередой выпасались на аэродроме и в Самодиновой балке. Стадо было большое – до сотни коров. Выпас стада коров осуществляли по очереди, по два человека. Жили люди убого, даже часов не было, чтобы посмотреть на время. В обеденный перерыв, с 13.00 до 15.00, мама и соседки ходили доить своих коров на тырло. Тырло – это место, где отдыхали коровы в обед, – находилось на северной стороне аэродрома. От нашей улицы Степной оно находилось в 2—2,5 км. Из дома маме надо было выходить где-то в 12.30. Время узнавали просто: ровно в 12 часов над нашими хатами пролетал почтовый самолет Ан-2, который доставлял почту для нашего районного центра. Женщины, после пролета самолета, начинали собираться и шли к своим коровам на аэродром.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: