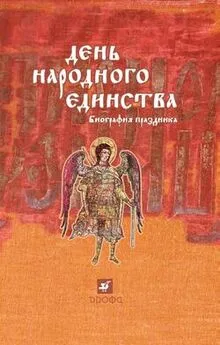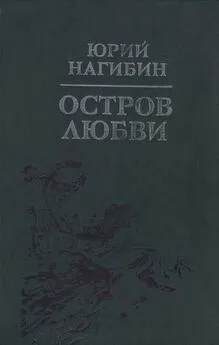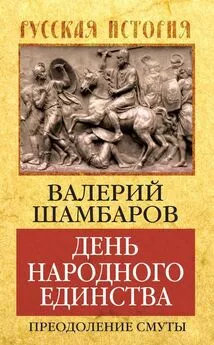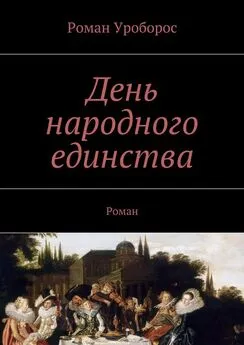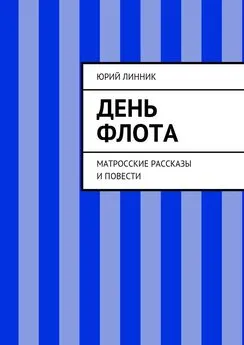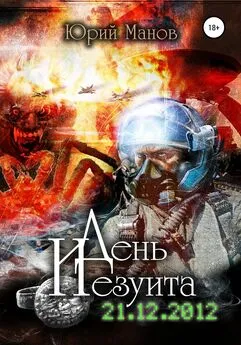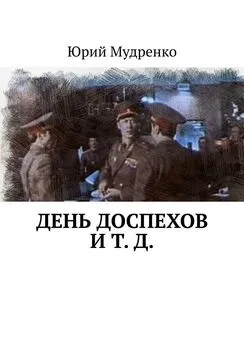Юрий Эскин - День народного единства: биография праздника
- Название:День народного единства: биография праздника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-358-03531-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Эскин - День народного единства: биография праздника краткое содержание
Книга посвящена драматичным событиям российской истории XVII в. – Смутному времени. На основе широкого круга источников и литературы авторы детально исследуют, как в борьбе за независимость Русского государства зарождалось общенациональное общественное движение.
В центре внимания исторических очерков В.Козлякова, П.Михайлова и Ю.Эскина – деятельность Второго ополчения и судьба его руководителей К.Минина и Д.М.Пожарского. В.Токарев рассматривает, как тема русской Смуты преломлялась в 1930-х годах, И.Андреев анализирует исторические уроки Смутного времени.
Для широкого круга читателей.
День народного единства: биография праздника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Совет всей земли» принял послов и вручил им для передачи императору грамоту, в которой просил содействия и посредничества в заключении мира с Речью Посполитой. Грамота эта была не столь посланием к императору, сколь документом «контрпропаганды», явно рассчитанным на оглашение при императорском дворе, а значит, и во всей Европе. В ней подробно излагалась вся история Смуты, о которой в мире ходили самые фантастические слухи и истории, [57]и вмешательства в нее Сигизмунда III, сообщалось о его не подобающем монарху, да еще родственнику (король был дважды женат на принцессах из Габсбургского дома), нарушении крестного целования (приписали ему, правда, и действия, совершавшиеся помимо его воли, например помощь Лжедмитрию II) [70, 114]. «И как вы, великий государь, сию нашу грамоту милостивно выслушаете, и можете рассудить, пригожее ль то дело Жигимонт король делает, что преступив крестное целованье, такое великое хрестьянское государство разорил и до конца разоряет, и годитца ли так делать хрестьянскому государю?» [36, 200].
Вопреки сложившемуся позднее мнению, ни о каком предложении престола австрийскому принцу написано не было, но на словах Пожарский в переговорах с дипломатами Й. Грегори и Е. Вестерманом осторожно намекнул на возможность кандидатуры «цесарева брата Максимилиана», дабы более заинтересовать венский двор в мирном посредничестве. Грамота эта, доселе хранящаяся в Венском государственном и дворцовом архиве, заверена единственной сохранившейся «большой» печатью Второго ополчения. Это та же печать Пожарского, но увеличенная и переработанная в духе классической геральдики. Ворон, клюющий отрубленную голову, помещен на фигурный щит в стиле барокко, поддерживаемый двумя львами. Под щитом – поверженный дракон. По краю печати – надпись: «Стольник и воевода и князь Дмитрий Михайловичь Пожарсково Стародубсково» [145; 152, 90]. Титул показывал австрийским герольдмейстерам, что глава нового временного правительства России – не случайная, выброшенная наверх волнами Смуты личность, не какой-нибудь загадочный «Болотникофф» или «Ляпунофф», не самозванец из «заквашенных в России и выпеченных в Польше», по замечанию В. О. Ключевского, а природный князь, герцог, принц, исконный суверен на своих родовых землях, родня угасшей династии, имеющий все юридические и моральные права участвовать в решении судеб своего государства, с представителями которого не зазорно вести переговоры. Забегая вперед, отметим, что имперское правительство, заинтересовавшись предложениями, действительно надавило на Речь Посполитую, порекомендовав прекратить кровопролитие [70, 115].
Заруцкий ощущал уход почвы из-под своих ног. Авторитет его падал, особенно, вероятно, после того, как он окончательно сблизился с Мариной Мнишек и сделался сторонником кандидатуры на престол ее сына, младенца «Ивана Дмитриевича», названного в честь «деда» Ивана Грозного, но которого в окружных грамотах Второго ополчения называли «воренком». Метод политического убийства показался ему надежным. В истекшие годы таким образом погибли (относительно некоторых, правда, имеются сомнения) царевич Дмитрий, сын Грозного, царевич Федор, сын Годунова и его мать, Лжедмитрии I, II, III, М. В. Скопин-Шуйский, П. П. Ляпунов. Иван Мартынович решил обратиться к опытным профессионалам. В Ярославль он послал двух казаков, Обрезка и Стеньку, там они связались с группой смолян, среди которых были дворянин И. Доводчиков и стрелец Г. Шанда, есть версия, что последние входили в число предателей, с помощью которых был взят Смоленск. На свою сторону заговорщики переманили одного из слуг Пожарского, рязанца Стеньку Жвалова. Однако заговоры подобная «массовость» губит, а их было не менее 9 человек. Слуга пытался зарезать Пожарского во время сна, но, видимо, князя хорошо охраняли. Тогда решено было убить его, подобравшись в толпе – «в тесноте». В конце июня 1612 г. Дмитрий Михайлович вышел из приказной избы для осмотра «наряда» – артиллерии. В дверях его, возможно еще не вполне окрепшего, поддерживал другой слуга, казак Роман. Кругом было много народу. Присланный Заруцким казак Стенька протиснулся в толпе и попытался нанести удар ножом, но попал по ноге Романа. Неизвестно, было ли это случайностью или слуга, надежный воин, успел среагировать на выпад. Пожарский сначала даже решил, что Роман чем-то случайно поранился и собрался продолжать смотр, но собравшаяся толпа закричала: «Тебя хотели зарезать!» Стеньке не дали уйти, а тогдашние методы застенка живо развязали ему язык. Пожарский не позволил толпе растерзать приведенных к нему предателей и разослал их по тюрьмам, главных же не велел казнить, а взял их с собой для давления на Заруцкого [70, 105; 77].
Тогда Заруцкий с верными ему атаманами (некоторые, как Иван Чика или Пантелеймон Матерый, служили еще у Болотникова) решился на полностью самостоятельную игру, козырем в которой была Марина, продолжавшая считать себя законной царицей, поскольку она была первой в России женой царя, которую, так же как мужа, короновали и помазали на царство [57, 297]. 28 июля он ушел из-под Москвы в Коломну, где находилась Марина с верными ей людьми и маленьким сыном – претендентом на престол, – которого злые языки называли сыном Заруцкого [159, 35]. С ним ушло не менее 2500 казаков, чуть ли не половина подмосковного ополчения. Все вместе они, предварительно разграбив город, двинулись на юг. Однако наиболее дальновидные атаманы, например известный Афанасий Коломна, служивший к 1613 г. государеву службу уже 25 лет, остались [160, 51]. Они знали, что Минин и Пожарский в Ярославле уже начали наделять переходящих на их сторону атаманов не только деньгами, но и поместьями по 25–30 крестьянских дворов [159, 49]. Эти казаки вынесли на себе всю тяжесть блокирования Кремля, отбивали пытавшиеся провести туда обозы отряды из войск Ходкевича и Струся, сами голодали в разоренном Подмосковье и не собирались поддерживать новую авантюру, понимая, что такого очередного «наследника престола» не признает никто.
Продвигаясь к Москве, 30 июня Пожарский, сдав командование К. Минину и князю Н. А. Хованскому, на сутки отьехал в Суздаль, помолиться в Спасо-Евфимьев монастырь [77, 372]. Обитель эта была давним «богомольцем» его рода, там были похоронены некоторые его предки, в том числе отец, князь Михаил, а также породнившиеся с Пожарскими князья Хованские (оба рода имели общий склеп, в монастыре до сих пор хранятся некоторые вклады семьи Пожарских [165, 28; 63]). Рядом с монастырем находилась и почитавшаяся князем церковь Козьмы и Дамиана в селе Коровниках, одного из святых князь, видимо, считал своим патроном и упомянул церковь в своем завещании [169, 152]. По возвращении Пожарского ждали в Ярославле не вполне приятные гости. К «Совету всей земли» прибыл отряд иностранных наемников под командой шотландца по имени Яков Шав (т. е. Джеймс Шоу). Ушедшие из России после службы самозванцам, Сигизмунду, Шуйскому из-за прекращения выплат жалованья, они, видимо, прослышали о хорошем денежном и поместном окладе и вернулись из Европы, предлагая свои услуги. Ярославское правительство им вежливо, но твердо отказало. В ополчении было немало честных, надежных служилых иноземцев, не говоря уже о целых отрядах служилых татар, мордвин, марийцев, возглавляли отряды и входили в правительство северокавказские князья Черкасские, и какого-либо предубеждения не было (под Москвой присоединился даже один польско-литовский отряд). Но здесь Пожарский и его соратники узнали некоторых из тех, кто предавал законное правительство под Клушиным, а особенно возмутило Пожарского возвращение с ними в Россию капитана Жака Маржерета, с отрядом которого он еще недавно насмерть рубился на пылающих улицах Москвы во время мартовского восстания. Ландскнехты, способные перейти к неприятелю из-за не выданного вовремя жалованья или просто сторговавшись с ним, были опасны. Их велено было выдворить через Архангельск, а тамошнего городового воеводу понизили в должности, от более строгого наказания его спасла только молодость и неопытность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: