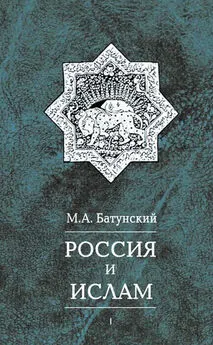Марк Батунский - Россия и ислам. Том 1
- Название:Россия и ислам. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Прогресс-Традиция»c78ecf5a-15b9-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-89826-106-0, 5-89826-189-3, 5-89826-188-5, 5-89826-187-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Батунский - Россия и ислам. Том 1 краткое содержание
Работа одного из крупнейших российских исламоведов профессора М. А. Батунского (1933–1997) является до сих пор единственным широкомасштабным исследованием отношения России к исламу и к мусульманским царствам с X по начало XX века, публикация которого в советских условиях была исключена.
Книга написана в историко-культурной перспективе и состоит из трех частей: «Русская средневековая культура и ислам», «Русская культура XVIII и XIX веков и исламский мир», «Формирование и динамика профессионального светского исламоведения в Российской империи».
Используя политологический, философский, религиоведческий, психологический и исторический методы, М. Батунский анализирует множество различных источников; его подход вполне может служить благодатной почвой для дальнейших исследований многонациональной России, а также дать импульс всеобщим дебатам о «конфликте цивилизаций» и столкновении (противоборстве) христианского мира и ислама.
Россия и ислам. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
151 Неверны поэтому и утверждения о том, что даже в позднесредневековой русской религиозно-культовой практике и ее осмыслении «магическо-языческое начало преобладало над спиритуально-христианским» ( Дмитриев В Д. К характеристике воздействия реформационной идеологии на эволюцию религиозно-философской доктрины православной церкви в XVI в. (На примере посланий старца Артемия) // Философская мысль на Руси в позднее средневековье. С. 17), т. е. по сути своей византийским. Нет поэтому оснований говорить о сколько-нибудь широком конфликте в России XVI в. двух мировоззренческих программ – традиционной (с приматом этического, интуитивистского и аффективного начал) с новозападной – дискурсивно-логической. Каждая из них в соответствии со своими задачами и средствами исследования и интерпретации конструировала свой особый язык для выражения именно данного специфического содержания. Возникли, таким образом, две «идеоматики», одна из которых часто не могла точно переводиться на язык другой. Еще предстоит поэтому обстоятельно исследовать, как отражалось на процессе накопления достоверных сведений об исламе то обстоятельство, что процесс трансплантации западного научного способа мышления – плода особой логической картины мира как осознанного и нагруженного социальной функцией тождества мысли и бытия – на русскую культурную почву беспрестанно наталкивался на чуждые ему концепции универсума. В них использовались другие, «нелогичные», картины мира, работали иные, «нелогичные» (разумеется, с западной точки зрения), системы сохранения, обновления и умножения комплексов считавшихся социально полезными знаний.
152 Есть, разумеется, много свидетельств о том, что на определенном этапе московская власть стремилась скорее к сохранению status quo в сфере межрелигиозных отношений, нежели к тому, чтобы сделать доминирующим курс на всеобщую христианизацию «по греческому закону». Так, в 1581 г. Иван Грозный говорил папскому посланнику Антонию Поссевино: «…венецианским и цесарским послам дозволено будет брать с собой в Россию своих священников, только бы они учения своего между русскими людьми не плодили и костелов не ставши ; пусть каждый останется в своей вере; в нашем государстве много вер; мы ни у кого воли не отымаем, живут все по своей воле, как кто хочет; а церквей иноверных до сих пор еще в нашем государстве не ставливали» ( Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Ч. VI. Гл. 6-я. С. 291. Курсив мой. – М.Б.). Постепенно, однако, разрешалось (особенно в XVII в.) ставить «церкви иноверные», в первую очередь – протестантские (см.: БерхВ. Царствование царя Алексея Михайловича. СПб., 1831. Часть 1. С. 12; Звягинцев Е. Слободы иностранцев в Москве XVII в. Исторический журнал, 1944, № 2–3. С. 84). Но в целом настрой был на – говоря словами одного из иностранных наемников – установление по всей стране «одной веры, одного веса, одной меры» ( Штаден Генрих. О Москве Ивана Грозного. (Записки немца-опричника). М., 1925. С. 123). И потому не надо безоговорочно воспринимать такие, скажем, пассажи: религиозная терпимость Москвы в XVI в. кажется «тем более поразительной, что это был век, когда на Западе разгорались жесточайшие богословские споры, когда за догматические отклонения целые группы населения были лишаемы гражданских прав, когда правительства усердно занимались религиозным сыском и когда процветала инквизиция». ( Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М.-Л. 1944. С. 29) и т. д. Но в то же время не может быть признана удовлетворительной и версия Гумилева о том, что русские в XVII в. более симпатизировали протестантству, чем католичеству (хотя оно «по догматике и обряду куда ближе православию, нежели лютеранство») по той причине, что «этнический момент (? – М.Б.) преобладал над идейным» ( Гумилев Л.H. Этногенез и биосфера Земли. Вып. 3-й. С. 118).
153 Порождая поэтому – подобно классическому романтизму (см.: Castex Р.-G. Horizons romantiquis. P., 1983. P. 15) – литературу «мистического экстаза, буйного самозабвения и лихорадочного стремления к абсолюту», «призыв к запредельному», «жажду последнего знания» и т. д. и т. п.
154 Слова русского поэта Александра Блока (1880–1921), в творчестве которого звучали и евразийские ноты.
155 См. особенно: Егоров Д. Идея «турецкой реформации» в XVI в.//Русская мысль. Книга VII. 1907.
156 Pelenski J. Opit. cit. P. 189. Кое в чем еще сохраняет свое значение работа: Philipp I. Ivan Peresvetov und sein sihriften zur Erneuerung des russisches Reiches // Osteuropâische Forschungen. Neue Folge. Vol. XX. Konigsberg, 1935.
157 И тут надо отдать должное тогдашней литературе, да и прочим жанрам искусства, ибо они действительно, как сказал Фридрих Шиллер, способны были «держать чудовищное и ужасное (т. е. в данном случае «злого мусульманина». – М.Б.) на расстоянии и не переполнять нас страхом» (цит. по: Schapiro G. From the Sumblime to the Political: Some Historical Notes // New Literary History. Ajournai of Theory and Interpretation. 1985. Vol. XVI. N 2. P. 221).
158 И в самом деле: кому из дальновидных идеологов европейских монархий не могло не импонировать то, что в XVI в. Османская государственная машина отличалась более справедливыми судьями, более эффективным чиновничьим аппаратом, господством принципа меритократки, а значит, и довольно широким процессом вертикальной социальной мобильности? Но ведь немало все тех же «дальновидных идеологов» уже изначально замечали, что социоэкономическая и культурно-политическая системы османского общества лишены внутреннего динамизма и внутренних стимулов для прогресса, исключают реальные возможности многоаспектной свободной динамики мысли, функционирования механизмов саморазвития и самосовершенствования.
159 Само собой очевидно, что я везде имею в виду евразийство как идеальный тип, т. е. как устойчивую по составу, относительно замкнутую и более или менее стабильную в сопредельных временных и даже пространственных границах систему историософских, культурно– и политологических установок. Они же порождают систему специфических стандартов, норм и ценностей, принятых членами данного социума (субсоциума) и понимаемых ими более или менее однозначно как руководство для интеллектуальной и практической деятельности, социально значимой для данного сообщества. Однако в реальной жизни такого явления – во всяком случае, со всеми его только что описанными характеристиками – никогда не было. Ведь любой «идеальный тип» имеет значение «чисто идеального предельного понятия, к которому действительность примеривается с целью выявления конкретного содержания». Что касается «идеальности», то она должна подчеркивать и умственную конструкцию, теоретическую модель, весьма далекую от мира, от которого она отвлечена. Она «так же мало встречается в реальности, как физические реакции, которые вычислены только при допущении абсолютного вакуума» (WeberМ. Wirtschaft und Gesellschaft. Koln – Berlin, 1964. В I. S. 10).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: