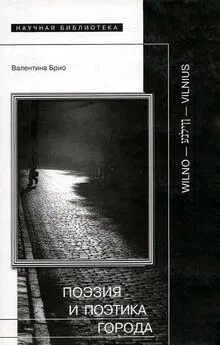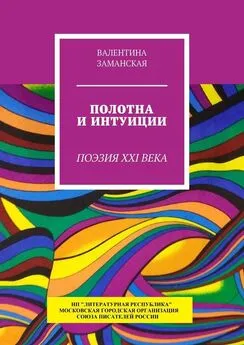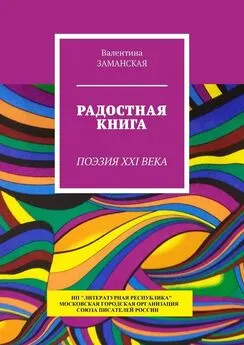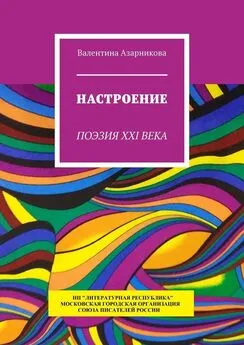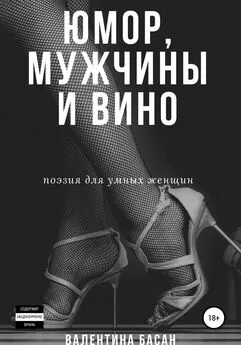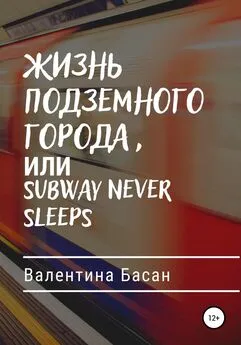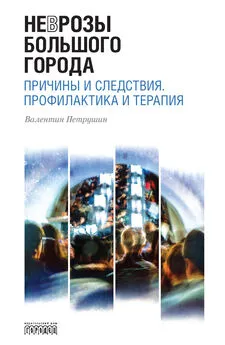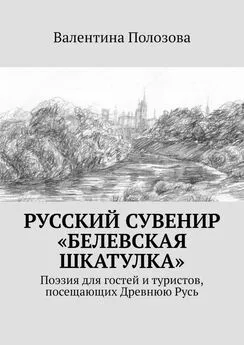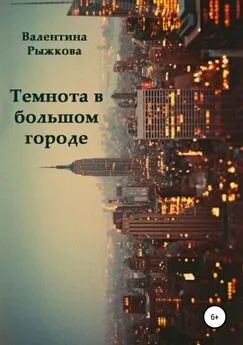Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
- Название:Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-613-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius краткое содержание
Сосуществование в Вильно (Вильнюсе) на протяжении веков нескольких культур сделало этот город ярко индивидуальным, своеобразным феноменом. Это разнообразие уходит корнями в историческое прошлое, к Великому Княжеству Литовскому, столицей которого этот город являлся.
Книга посвящена воплощению образа Вильно в литературах (в поэзии прежде всего) трех основных его культурных традиций: польской, еврейской, литовской XIX–XX вв. Значительная часть литературного материала представлена на русском языке впервые. Особенная духовная аура города определила новый взгляд на его сложное и противоречивое литературное пространство.
Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот стихотворение, написанное позже, когда уже стало возможным возвращение и привычным стало посещать родные места и другие города бывшей империи, — «Силлабические строфы» (1996; из сборника «Взгляд из аллеи», 1998):
Заезжий из дальних краев, замри на месте.
Звезда над сосновым лесом очнулась вроде,
чуть потускневшая, заспанная. Долина
запружена строем башен, в ее замесе —
ничто и разум, огонь и глина, в ее природе —
вневременность: как родник она или роза.
Шуршит под ногами гравий. Огонь и глина.
За сточной канавой вяжут улицы петли.
Заброшенный мир! Сколько дней, месяцев, лет ли
тому он запросто был обозрим с откоса.
Между набережной и полосой платформы
пространство давней вины, известняка; едкий
от нищеты неона леденеет воздух;
ржавеющий ключ в кармане — есть слепок с формы —
каким-то чудом! — пространства, оно же — в клетке
желанья, в гуле эфира, в снах; как когда-то,
ты мог бы его пересечь — днем ли, при звездах —
вслепую, словарь человечий взрастив из властных
его ветров, взрастив виноградник гласных
из проливного дождя и арочного алюмината.
Ты говорил лишь о нем, и радар Господень
ощупывал путаницу его крестов, оград сцепленья,
ты бы вовек не заблудился здесь (на этом,
во всяком случае, свете). Мрак подворотен,
желчь, предательство, озлобленье
бывших друзей, могилы, дверей проемы,
заколоченные досками, — ты знал, — ответом
и ценою будут твоему возвращенью
на Итаку. Вашему нынешнему воплощенью
повезло: вы встретились.
…Видишь только песчаный холм невысокий,
склон волнистый, местное видишь барокко,
размышляя о смерти, о царствии ли небесном.
В этих строках несомненна перекличка со стихотворением К. Кавафиса «Итака», которое Венцлова перевел на литовский язык, — Венцлова дает свой ответ на предупреждение, высказанное греческим поэтом:
…чтоб достигнуть острова в старости обогащенным
опытом странствий, не ожидая
от Итаки никаких чудес.
Итака тебя привела в движенье.
Не будь ее, ты б не пустился в путь.
Больше она дать ничего не может.
Даже крайне убогой ты Итакой не обманут.
Умудренный опытом, всякое повидавший,
Ты легко догадаешься, что Итака эта значит [423].
Стихотворение Кавафиса переводил и Бродский, к которому также обращен монолог из «Силлабических строф» Венцловы, — как и к Милошу, еще одному поэту из этого «триумвирата» и тоже переводчику этих стихов Кавафиса, уже на польский язык. Для всех троих миф Итаки проецируется на личный миф. Знаки Вильнюса проступают в стихотворении «По ту сторону пролива» («Anapus sąsiaurio» [424]); но, в отличие от «Осени в Копенгагене», на сей раз перед нами не узнавание, а внесение, вписывание в иную, весьма отдаленную, топографию (речь идет о Гибралтаре) вильнюсских черточек городского пейзажа и архитектуры: статуй атлантов одного из дворцов. И связывает Вильнюс с Гибралтаром все тот же миф: именно здесь титан Атлант поддерживал небесный свод, здесь же, на Гибралтарском проливе, возвышались Геркулесовы столпы Одиссея, так что вспоминание своего города, своей Итаки становится неизбежным.
Стихотворение «Užupis» («Заречье», 1998) [425]переносит читателя в вильнюсский уголок со своими легендами и преданиями, полными артистических ассоциаций. Кафе на берегу реки, напоминающей Тибр (теперь уже в родном городе проступают знаки городов иных), увиденное через много лет, наводит на элегические размышления:
В сутолоке лип, у камней прибрежных,
где течет поток торопливый, с Тибром
схожий, с бородатыми двумя «Gilbey's»
пью, стаканы, сумерки с дымом.
Их не знаю. Знал родителей только. [426]
Кафе как место встречи для беседы, разговора, общения за чашкой или за рюмкой — место знаковое: «В кофейнях и рюмочных формируются эффективные противовесы власти и не только в форме критики официальной идеологии, обсуждения принимаемых законов, но и в форме шуток, анекдотов, юмора, нейтрализующих серьезность, которой требует власть…» [427]И далее в той же статье Б. Маркова говорится: «Здесь высмеиваются и отвергаются узкие догмы, закостеневшие предрассудки; здесь формируется неангажированный дискурс свободной общественности, нейтрализующий ложь и идеологические аберрации; здесь освобождаются душевные чувства и берут верх жизненные ценности» [428]. Венцлова не раз рассказывал и писал о вильнюсском кафе «Неринга» как важном культурном локусе города (в том числе и в статье, посвященной анализу «Литовского дивертисмента» Бродского — одно из стихотворений этого цикла так и озаглавлено: «Кафе „Неринга“»). Здесь можно было встретить знаменитостей, в «Неринге» происходило неформальное интеллектуальное и культурное общение творческой интеллигенции, студентов, там читали стихи, кафе было своего рода стихийным литературно-художественным салоном, складывавшимся из различных маленьких дружеских кружков. Это было место свободной коммуникации в советских условиях — несмотря на то что не было секретом наличие подслушивающих устройств. Очень важным и притягательным моментом было джазовое трио Вячеслав Ганелин — Владимир Тарасов — Владимир Чекасин, игравшее в этом кафе и приобретшее впоследствии мировую известность [429]. «Неринга» очень быстро обрастала своим фольклором, формировавшим культурную легенду.
Возвращаясь к прибрежному кафе в стихотворении Венцловы «Заречье», отметим, что оно оказывается как бы подсвеченным ореолом другого кафе из юности автора. Стихотворение словно бы продолжает прерванный много лет назад разговор — оказывается, что собеседников поэта «…волнует то же, что и меня когда-то»:
Что ж, сменяются поколенья. Шорох
диктофона, щелканье. О, вопросы
те же, что и я задавал когда-то:
есть ли смысл в жалости или страданьи
и возможно ли искусство вне нормы.
Общность подтверждается и явной автоцитатой из стихотворения «В Карфагене много лет спустя»: «То, что было удачей, то, что было мукой, /одинаково расплавляет огонь» [430]. «Заречье» завершается неизбежным сравнением поколений и в то же время каким-то повторением, возвращением на круги своя:
Точно был таким же, покуда странной
не был испытан судьбой, других, впрочем,
судеб не лучше. Знаю: зло пребудет,
слепоту можно отчасти развеять
и стихи значительней сновиденья.
Часто просыпаюсь перед рассветом
и без страха чувствую: близко время,
когда новое поколенье вкусит слово,
соль и хлеб, увидит облако и руины,
и когда мне выпадет лишь свобода.
Город, на этот раз точно обозначенный, становится местом подведения итогов, спокойного оглядывания назад, и сравнение маленькой речки Вильняле (Виленки) с Тибром оказывается очень уместно в этом контексте, как и нота трагизма. Таково и стихотворение «Стык» (2001 г.) с его спокойной интонацией раздумья. Может быть, оно чуть напоминает поздние стихи Милоша, посвященные родным местам, увиденным через много лет:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: