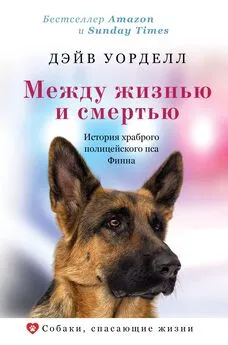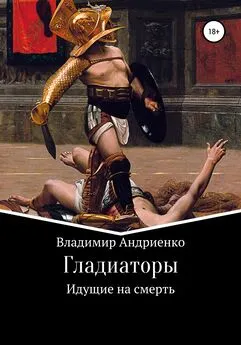Владимир Горончаровский - Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью
- Название:Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Петербургское Востоковедение
- Год:2009
- ISBN:978-5-85803-393-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Горончаровский - Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью краткое содержание
Книга представляет собой всестороннее исследование такого явления древнеримской цивилизации, как гладиаторские игры. На основе широкого круга письменных, эпиграфических и археологических источников автор рассматривает вопросы происхождения гладиаторских игр и связанных с ними сооружений, их профессиональной организации, подготовки и вооружения гладиаторов, а также участие гладиаторов в военно-политических событиях I в. до н. э. — IV в. н. э., в частности восстание Спартака. Впервые в отечественной историографии детально рассматриваются и анализируются изобразительные материалы, касающиеся проведения гладиаторских игр на территории Боспорского царства, и их специфика в сравнении с традиционными формами такого рода зрелищ в Римской империи.
Иллюстрированное научно-популярное издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся военным делом и военно-политической историей античного мира.
Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Добравшись до Мессанского пролива шириной в самом узком месте всего 3,5 км, Спартак, видимо, рассчитывал быстро переправиться на остров Сицилию, где еще недавно бушевали рабские восстания, и можно было попытаться разжечь огонь нового восстания. Очевидно, там планировалось создание запасного плацдарма на случай неудач в Италии, ведь речь шла о высадке на острове всего двух тысяч человек (Plut. Crass. 10). Сам по себе неширокий, на первый взгляд, пролив, тем не менее, представлял собой серьезную преграду. Он отличается сильным течением (около 9 км в час), устремляющимся между разбросанными по берегам острыми скалами. Согласно древним преданиям, именно здесь, по разные стороны пролива, подстерегали мореходов сказочные чудовища — Сцилла и Харибда. Флота у восставших не было и, по имеющимся сведениям, помощь в осуществлении переправы Спартаку пообещали киликийские пираты, полностью господствовавшие в проливе после уничтожения всего флота Гая Верреса, пропретора Сицилии в 73–71 гг. до н. э. По образному выражению Цицерона, «вследствие алчности Верреса флот существовал в Сицилии только по названию» (Cic. in Verr. IV. 25. 63) и десантная операция в расчете на две тысячи человек заняла бы у небольшой пиратской эскадры из 35 подвижных и вместительных либурн не более двух часов за два рейса [68] Ср.: Хлевов А. А. Морские войны Рима. С. 472.
. Почему же переправу не удалось осуществить сразу? Все дело в том, что даже такими силами в тот момент пираты не располагали. Под началом действовавшего в проливе их предводителя Гераклиона было всего четыре небольших корабля (Cic. in Verr. IV. 35. 91), и требовалось время, чтобы собрать их в достаточном количестве. Во всяком случае, серьезных препятствий для десанта со стороны Верреса не ожидалось, иначе трудно объяснить слова Цицерона в речи, произнесенной позднее против этого римского магистрата: «Стало быть, это ты помешал полчищам беглых переправиться из Италии в Сицилию? Где, когда, откуда? Никогда ничего подобного мы не слыхали… А ведь если бы в Сицилии были против них хоть какие-нибудь сторожевые отряды, не пришлось бы тратить столько сил, чтобы воспрепятствовать их попыткам» (Cic. in Verr. IV. 2. 5). Последнюю фразу дополняет утверждение, что только «доблесть и мудрость храбрейшего мужа Марка Красса не позволили беглым рабам переправиться через пролив в Мессану». Эти слова однозначно можно трактовать как свидетельство о том, что в осложнившейся ситуации римлянами были срочно стянуты к Сицилии какие-то военно-морские силы. В итоге даже после получения оговоренной заранее суммы денег ни один пиратский корабль не прибыл в назначенное место [69] Нельзя полностью исключать и возможность подкупа пиратской верхушки (Мотус А. А. Из истории восстания Спартака. С. 60–61).
. Возможно, такое бездействие диктовалось также интересами главного союзника пиратов Митридата VI Евпатора, для которого, в условиях постигших его неудач, важно было сохранение военной угрозы для Рима непосредственно на земле Италии. Изменившиеся обстоятельства, тем не менее, не заставили Спартака отказаться от самой идеи переправиться на Сицилию. Попытка преодолеть узкий и бурный пролив на плотах из бревен и пустых бочек тоже оказалась неудачной (Flor. III. 20. 13). Между тем сезон, благоприятный для действий на море, закончился, дальше идти было некуда, а обратный путь с Регийского полуострова преградили военные силы Красса.
Осмотрев местность, римский полководец решил, что ввязываться в сражение с армией Спартака не имеет никакого смысла. Сама природа подсказала ему наиболее подходящий план, нацеленный на то, чтобы отрезать мятежных рабов от внешнего мира и заставить их капитулировать. Отдав приказ возвести на перешейке линию укреплений, Красс решал сразу две задачи — «уберечь солдат от безделья и лишить врагов подвоза продовольствия» (Plut. Crass. 10). Тысячи легионеров взялись за кирки и лопаты, и скоро от моря до моря протянулся ров шириной и глубиной около 4,5 м, укрепленный земляным валом и стеной, поражавшей своей высотой и прочностью. Плутарх писал, вероятно, с целью поразить воображение читателя, что длина этих укреплений составляла триста стадиев (около 55 км), и эта цифра фигурирует во всех исследованиях, затрагивающих тему восстания Спартака. На самом деле ширина перешейка в этой части Апеннинского полуострова составляет всего 30 км, что полностью соответствует расстоянию в 160 стадиев, указанному в описании Южной Италии из текста «Географии» Страбона (Strab. VI. 1. 4), и это, даже с учетом особенностей рельефа местности, по крайней мере, почти в два раза сокращает предполагавшийся ранее объем работ, произведенных солдатами Красса. Кроме того, они могли использовать остатки более ранних укреплений. В частности, Страбон сообщает, что именно здесь в свое время сиракузский тиран Дионисий Старший (ок. 430–367 до н. э.) «пытался перегородить стеной перешеек от внешних варваров», но этот план не был выполнен до конца (Strab. VI. 1. 10). В любом случае, при наличии опытных военных инженеров и организованной рабочей силы необходимые работы действительно можно было провести в достаточно сжатые сроки. Наиболее близким по времени примером, связанным с подобной практикой римской армии, является возведение всего за 18–20 дней легионерами Цезаря (около 10 тысяч человек) рва и вала высотой 4,8 м и протяженностью 28 км, чтобы воспрепятствовать продвижению гельветов в пределы Нарбонской Галлии в 58 г. до н. э. (Caes. De bello Gall. I. 8). Столь же бурный строительный энтузиазм продемонстрировали позднее, в 70 г. н. э… римские солдаты (не менее 20 тысяч человек) под командованием Тита в период осады Иерусалима, когда за три дня они возвели вокруг города стену длиной почти 7 км и тринадцать сторожевых башен (Jos. Fl. Bell. Jud. V. 12. 2). С учетом производительности труда римских легионеров в указанных примерах и их числа под началом у Красса можно утверждать, что создание фортификационной линии на Регийском полуострове должно было занять не более недели.
Сначала эти сооружения мало заботили Спартака, относившегося к ним с полным пренебрежением, но скоро стало ясно, что армия рабов заперта на пространстве, где запасы продовольствия весьма ограниченны, несмотря на наличие здесь семи городов с прилегающей сельской округой, в том числе таких известных, как Регий и Локры Эпизефирские. Первая же попытка прорыва блокады, предпринятая на заре, закончилась неудачей. Как гордо утверждал Аппиан, погибло около шести тысяч восставших, а вечером еще столько же, тогда как у римлян благодаря укреплению дисциплины было всего трое убитых и семь раненых (Арр. Bell. Civ. I. 119). Естественно, эти цифры, отражающие урон, понесенный армией Спартака, абсолютно нереальны.
После постигшей их неудачи рабы уже не атаковали укрепления Красса всеми силами, а беспокоили осаждавших мелкими стычками и неожиданными нападениями, забрасывая ров связками хвороста и поджигая их. Все это должно было держать римлян в постоянном напряжении, под угрозой внезапной попытки прорыва. Одновременно предпринимались действия, способные спровоцировать противника на атаку. Так, однажды Спартак приказал распять пленного римлянина на нейтральной полосе между позициями обеих армий. Красс, убедившийся, что «рабская» война — дело тягостное и серьезное, не принял этот вызов. Он предпочитал выжидать и с презрением отверг предложение вступить в переговоры. В чем заключалась их суть? Может быть, отчасти некоторый свет на этот вопрос проливает сообщение Тацита, который вспоминал попытку мирных переговоров со стороны Спартака в связи с другим «дезертиром и разбойником» — Такфаринатом, вождем африканского восстания 17–24 гг. н. э. Этот нумидиец потребовал, угрожая бесконечной войной, предоставить местожительство себе и войску, но также получил решительный отказ (Тас. Ann. III. 73).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
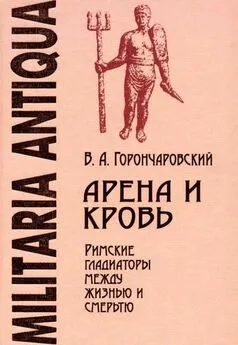

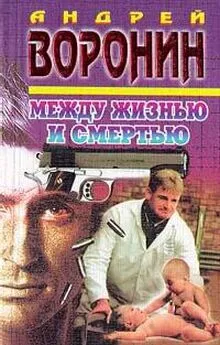

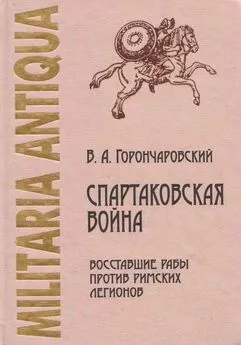
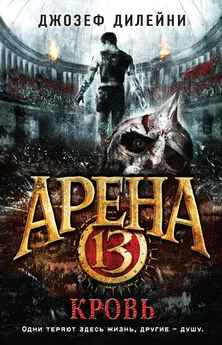
![Джозеф Дилейни - Арена 13. Кровь [litres]](/books/1093017/dzhozef-dilejni-arena-13-krov-litres.webp)