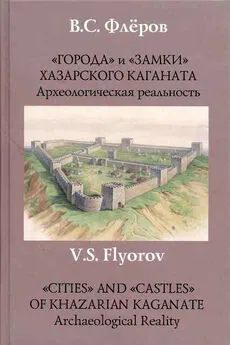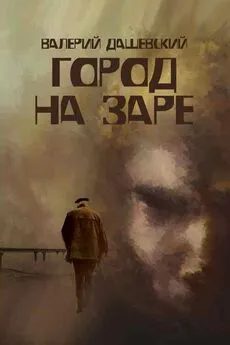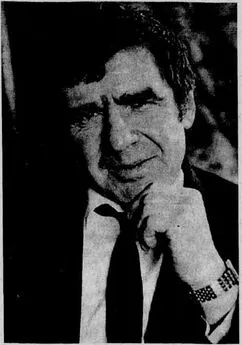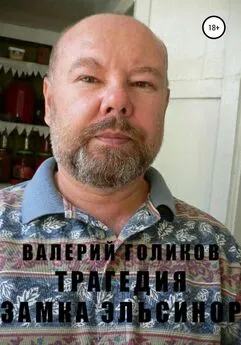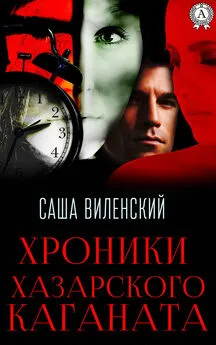Валерий Флёров - «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность
- Название:«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мосты культуры
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93273-333-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Флёров - «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность краткое содержание
«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2011. — 264 с.
Термин «город» утвердился в археолого-исторической литературе при описании некоторых городищ Хазарского каганата. Насколько он обоснован материалами раскопок? B. C. Флёров приходит к отрицательному ответу: в Хазарском каганате городов не было.
Решение проблемы автор нашёл в строгом рассмотрении археологического материала памятников каганата, претендующих на статус города. В общем виде программа исследований сформулирована так — город или что-то иное. Для Хазарии она может выполняться на основе планов поселений, типов построек, размеров фортификационных сооружений, наличия ремесленного производства.
В книге исследуются также социально-экономические вопросы: о кочевании, развитии экономики, феодализме, степени централизации в каганате.
«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Остается «абстрактный», но вполне ощутимый археологически, политэкономический признак города как центра перераспределения прибавочного продукта (несводимого только к перераспределению продукции сельского хозяйства — ср. Носов, 2005: 32) О нём пишет и В. С. Флёров в связи с работами О. Г. Большакова. Наиболее очевидно этот прибавочный продукт представлен в Хазарии (равно как на Руси и в Северной Европе) монетным серебром, получаемым в Европе из Халифата.
Давно отмечено, что Хазария несравненно беднее кладами монет, чем Русь и Скандинавия. В этих регионах, в отличие от регионов с давно развитой «имперской» рыночной экономикой, не существовало собственно монетного обращения: восприятие монетных находок как свидетельства товаро-денежных отношений приводило к многочисленным историографическим недоразумениям, к каковым следует отнести и знаменитую теорию торговых городов В. О. Ключевского. В отношении Хазарского каганата эти недоразумения подкреплялись историографическими фантомами, вроде активности «еврейского торгового капитала» (вплоть до популярных работ С. А. Плетнёвой), «паразитирования» каганата при посредстве таможенных сборов на международных коммуникациях, трансконтинентального пути «из немец в хазары», который должен был функционировать, связывая Регенсбург, Киев и Итиль чуть ли не с VIII в. Об этом специально пишет B. C. Флёров, замечая, между прочим, что серебро использовалось для производства парадного убора — и это было формой перераспределения прибавочного продукта. Археологически эта функция перераспределения богатств, в отдельных случаях связанная с административной функцией, скорее может быть обнаружена на материале некрополей, чем на материале поселений.
Ещё одно очевидное свидетельство для археологии материализации прибавочного продукта — наличие укреплений, особенно когда нанимались иностранные мастера, как это было в случае с Саркелом: хазарский государственный, идущий от хакана и бека, заказ на строительство его греками был документирован Константином Багрянородным (DAI, 42). Крепость отнюдь не обязательно должна была иметь какие-либо иные специализированные городские признаки: скептицизм Флёрова в отношении историографической конструкции С. А. Плетнёвой, наделяющей Саркел функцией караван-сарая на Шелковом пути, представляется в этом отношении обоснованным. Саркел именуется у Константина «крепостью» — κάστρον, но так же именуется у него и Херсонес (а также Киев и Смоленск): византинисты (Шувалов, 1986; Dunn, 1994) заметили, что к X в. многие византийские города превращаются в крепость и соответствующий термин заменяет традиционное обозначение — полис.
Существеннее, однако, иная проблема: один город, даже столичный (функции хазарской столицы Итиля Флёров разбирает подробно) [44], может не обладать полным набором функций — «признаков», которых ожидают от «настоящего города» исследователи. Таким набором функций, опять-таки с точки зрения политэкономической науки, обладает городская сеть с поселениями, наделенными специализированными функциями (торговых/ремесленных или административных, культовых и т. п. центров — см. Ильин, 1979; Петрухин, 2009).
Одна из проблем, поднимаемая в связи с этим B. C. Флёровым — взаимодействия сети поселений Хазарии с сетью заведомо городских поселений Византии и Халифата [45]. И торговые связи, и стремление к господству над древними городскими центрами Причерноморья (ср. предположения о «кондоминиуме» хазар и греков в византийских городах вплоть до Херсонеса) заставляют предполагать знакомство хазар со средневековым городским правом. В описании маршрутов иудейских купцов арразанийа хазарский город Хамлидж упомянут в одном контексте с другими населенными пунктами, включая Рей, Багдад, которые едва ли можно лишить городского статуса (см. недавнее комментированное издание — Хрестоматия: 31,35). Замечу, что уже первый договор Руси с греками (907/911 г.) предполагал разверстку дани («укладов») по русским городам (ПВЛ: 418); то же относится и к присутствию иноверцев на поселениях Хазарии — дело отнюдь не в специфической веротерпимости хазар, а в знакомстве с традициями имперского права. B. C. Флёров прав, подчеркивая, что эти политэкономические и юридические проблемы — не предмет археологии, он анализирует материал с позиций «археологического источниковедения», хотя с его мнением об «исчерпанности потенциала» письменных источников по проблеме городов можно не соглашаться (в том числе, в перспективе междисциплинарных исследований). Смысл и ценность его работы — в систематическом и критическом обзоре того археологического материала, без которого уже не могут обойтись представители смежных специальностей. Здесь немало как редакционных, так и содержательных проблем, разрешить которые можно лишь в своде памятников салтово-маяцкой культуры.
Справедливы экскурсы B. C. Флёрова о количественных показателях древних и средневековых авторов — ещё филолог-античник Ф. Ф. Зелинский писал, что они «щедры на нули»: некоторые математические мифы обрели жизнь в современной историографии. Так, всерьез воспринимаются рассказы о переселении десятков тысяч еврейских семей в Армению и Иран, известие ал-Куфи о пленении Марваном 20 тысяч славянских семей во время хазарской войны, что позволяет заселить славянами всю Хазарию вместе с Поволжьем и Северным Кавказом и т. п. (не только в квазинаучных конструкциях Е. Галкиной). Для более поздней степной проблематики существеннее, что 10 тысяч — распространенное в средние века обозначение боевой единицы, ср. монгольский тумен и древнерусскую тьму (10 тыс. воинов).
Существенна для проблематики книги информация русской Начальной летописи о походе князя Святослава на хазар (965 г.): в отношении хазарских поселений летописец XI в. (во вставном тексте, разрывающем рассказ о походе русского князя на вятичей) именует хазарские поселения «градами» — «иде Святославъ на козары… и градъ их и Бѣлу вежю взя» (ПВЛ: 31). Из синтаксиса фразы неясно, взял ли князь столицу — Град — Итиль и крепость Саркел (точно поименованную по-русски Белой Вежей), или термин град приложим к хазарской крепости. Далее в рассказе о походе князя на Балканы термин град/город прилагается уже к поселениям на Дунае: «и взя городъ 80 по Дунаеви, и сѣде княжа ту въ Переяславци, емля дань на грьцѣх»; Переяславец — новая столица Святослава — также именуется градом [46].
Впрочем, именно лексика естественного (русского) языка столь же естественно порождает в концепциях исследователей и переводчиков древних текстов «города», «замки» и т. п. (ср. Гмыря, 1995:151–154) [47]. Заметим, что и на Руси не существовало замков, ибо дележ прибавочного продукта происходил в городах (как в Киеве, так и в Новгороде), с замками ассоциируются древнерусские «владельческие села», иногда укрепленные (ср. Поляков, 2005), но «феодальная» верхушка и князья тянулись к городам. Можно предполагать, что сходной была ситуация в Хазарии, и скепсис Флёрова в отношении такого конструкта, как «кочевой замок» [48], следует считать справедливым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: