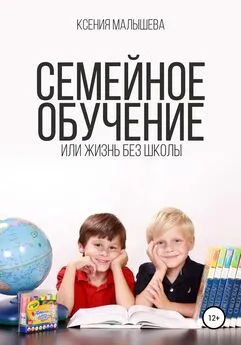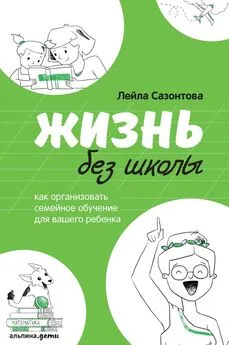Е. Томас Юинг - Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг.
- Название:Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РОССПЭН
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978-5-8243-1529-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Е. Томас Юинг - Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг. краткое содержание
Эта книга посвящена советским учителям во времена переустройства общества, введения всеобщего обучения и захлестнувших страну политических репрессий. В центре внимания — повседневная жизнь учителей начальной и средней школы, особенности их работы и статус, политические взгляды. Исследование основано на архивных и опубликованных материалах, включая письма и воспоминания, сообщения школьных инспекторов, а также методики и учебные пособия. В книге рассказывается о сложившихся между властями, простыми людьми и школой уникальных отношениях, об их эволюции в первое десятилетие эпохи сталинизма.
Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Преподавать! — снова почувствовать себя человеком! Стремительно войти в класс и огненно обежать ребячьи лица! Палец, протянутый к чертежу, — и все не дышат! Разгадка дополнительного построения — и все вздыхают освобождение».
Заявление Солженицына поставило местное роно перед дилеммой. Университетский диплом и преподавательский стаж давали ему преимущества перед местными учителями, но «трусливые чиновники», как презрительно назвал их Солженицын, не решились дать шанс бывшему зэку и отказали ему в просьбе. Однако когда через несколько дней умер Сталин, Солженицына тут же позвали преподавать математику и физику в сельской средней школе. И снова в его воспоминаниях говорится, что «счастье — войти в класс и взять мел» после насильственной десятилетней изоляции от любых нормальных человеческих отношений и работы мысли:
«Когда я был в Экибастузе, нашу колонну часто водили мимо тамошней школы. Как на рай недоступный я озирался на беготню ребятишек в ее дворе, на светлые платья учительниц, а дребезжащий звонок с крылечка ранил меня. Так изныл я от беспросветных тюремных лет, от лагерных общих! Таким счастьем вершинным, разрывающим сердце, казалось: вот в этой самой экибастузской бесплодной дыре жить ссыльным, вот по этому звонку войти с журналом в класс и с видом таинственным, открывающим необычайное, начать урок» {496} 496 Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 3. С. 375, 382-383.
.
Речь здесь идет об эмоциях 1953 г., но и школьную атмосферу 1930-х гг. этот пример иллюстрирует хорошо. Вместе с миллионами учеников и сотнями тысяч учителей Солженицын провел предвоенное десятилетие в классе — в коллективе, где шло его воспитание на крутом повороте истории, когда менялась жизнь каждого человека. По доминантам солженицынских воспоминаний: жажда общения с детьми, неповторимая аура класса, авторитет учителя, отточенность и даже магия каждого его слова — можно судить о том, как формировала и пленяла человека школа. Преподавание сохранилось в памяти Солженицына как своеобразная форма власти — с бурями эмоций и поразительным интеллектуальным подъемом {497} 497 О привлекательных сторонах и сложностях работы зрителя см.: Rousmaniere К. City Teachers. P. 128-131.
.
В конечном итоге, преподавание, по Солженицыну, весьма консервативно. В своих воспоминаниях он страстно желает повелевать учениками, распоряжаться знаниями и держать под полным контролем весь процесс обучения. Вполне в духе реформ ЦК партии после 1931 г., отводивших ключевую роль учителю, Солженицыну педагог видится «открывающим необычайное», то есть преподаванию непременно сопутствует иерархия статусов, возрастов и знаний, а выстраивает и укрепляет ее все бытие школьного класса.
Пример с Солженицыным показывает, что, если реформы повышали авторитет учителей, они имели все основания новые веяния принять, им следовать и даже публично одобрять политику ЦК партии. История одного эмигрировавшего учителя говорит о поддержке, которой пользовалась после 1931 г. советская политика в просвещении. По воспоминаниям Доры Штурман, учителя приветствовали реформы, восстановившие «необходимый порядок в процессе обучения», по которому все так стосковались после «хаоса» и «бесконтрольной свободы» 1920-х гг. Другой бывший учитель признавал, что стабильность программ, традиционные методы обучения и строгая дисциплина «обеспечивали лучшее образование учащимся». Самарин пошел еще дальше в своем утверждении, основанном на собственном опыте работы в советских школах и на курсах повышения квалификации, что решения ЦК партии были «востребованы самими учителями, так как они прекрасно видели плачевную ситуацию в школах» {498} 498 HP. A. № 111. P. 1-4, 12-13; № 493. P. 29; Samarin V. The Soviet School. P. 26; Shturman D. The Soviet Secondary School. P. 51-53.
. [49] Даже Солженицын считал, что «за военные годы и послевоенные школа наша — умерла, ее больше нет». Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. С. 383.
Когда учителя в эмиграции оценивали решения властей, мишенью их критики было политиканство на уроках, о чем пойдет речь в следующей главе, но не изменение роли учителя, который стал ключевой фигурой в школе. Так как реформы в сфере образования имели целью прежде всего передать больше знаний учащимся, политика властей имела широкую поддержку учителей.
Судя по приведенным здесь свидетельствам и комментариям, советскую политику 1930-х гг. и ее практическое воплощение можно хорошо описать с помощью метафоры Кьюбана об океанском шторме. Конечно, в американских школах, по Кьюбану, дело обстояло по-другому, так как там учителя, не говоря о местных властях, вели подчас острые дискуссии об актуальности и содержании реформ. Наоборот, советскую политику вырабатывали в Москве, без всяких предварительных обсуждений.
Сравнение со штормом тем не менее применимо к «многослойной» советской политике 1930-х гг. На поверхности — инициированная партийной верхушкой словесная круговерть и волны наркомпросовских инструкций, накатывающие на роно и школы. Учительской практике — уровнем ниже — свойственны куда менее драматичные, весьма неспешные и отнюдь не радикальные перемены. Совет «учить кто как умеет и как хочет», тактика «удержаться на плаву», виноградовская вера в интуицию (в то, что «навеет» ему его «сущность» и подскажет «долгий и порой болезненный опыт»), — понятно, что жизнь школьного класса выстраивалась под влиянием разных сил, иногда невидимых, и «определить» ее сверху или взять под полный контроль не представлялось возможным.
«Ситуативно ограниченный выбор» (формулировка Кьюбана) также подсказывает, как школьное руководство, отведение часов на изучение предметов, программы, учебники и намерения властей, т. е. все, что не зависит от воли учителя, устанавливало границы, в пределах которых педагогам приходилось принимать решения по организации учебного процесса. В выводе Кьюбана о том, что американские «учителя пользовались свободой, хотя и небольшой, в решении всех вопросов в соответствии со своими взглядами», содержатся как ограничения для учителей, так и возможности выбора преподавательской тактики {499} 499 Cuban L. How Teachers Taught. P. 249-253.
.
Использованные в этом исследовании свидетельства позволяют применить этот вывод и для оценки работы учителей во времена сталинизма. Реформы образования после 1931 г. должны были изменить школьную жизнь, однако властям не удалось добиться единообразия в процессе обучения. Хотя государство держало школу на коротком поводке, учителя находили лазейки в противоречивой официальной педагогике. Традиционные методы преподавания отвечали интересам как партийной верхушки, так и учительского корпуса. Слабая подготовка, нехватка методических материалов, материально-техническое состояние и наполнение классов, сверхурочная работа и перенапряжение ограничивали возможности учителей, а тем временем расцвела процентомания, учебники то и дело перекраивались, возможностей для дискуссий не было, и значит, критиковать скороспелые новации было некому. При этом учительский корпус, от молодых до самых опытных, по-прежнему исповедовал культ знания, самому же учителю отводилась ключевая роль, он поддерживал дисциплину в классе и был его духовным лидером.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


![Макс Вебер - Власть и политика [сборник]](/books/1067620/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik.webp)