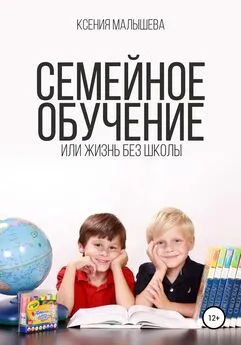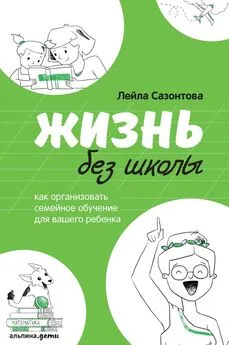Е. Томас Юинг - Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг.
- Название:Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РОССПЭН
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978-5-8243-1529-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Е. Томас Юинг - Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг. краткое содержание
Эта книга посвящена советским учителям во времена переустройства общества, введения всеобщего обучения и захлестнувших страну политических репрессий. В центре внимания — повседневная жизнь учителей начальной и средней школы, особенности их работы и статус, политические взгляды. Исследование основано на архивных и опубликованных материалах, включая письма и воспоминания, сообщения школьных инспекторов, а также методики и учебные пособия. В книге рассказывается о сложившихся между властями, простыми людьми и школой уникальных отношениях, об их эволюции в первое десятилетие эпохи сталинизма.
Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Экзамены тоже стали камнем преткновения. Восстановление в правах обязательных испытаний для всех учеников стало важным шагом на пути к традиционным методам обучения и оценки знаний {474} 474 Перовский Е. И. Экзамены в советской школе. М. , 1948. С. 50; Holmes L. E. Stalin's School. P. 68-71; Johnson M. S. Russian Educators, the Stalinist Party-State, and the Politics of Soviet Education. P. 217-219, 271-277.
. Однако, несмотря на указания ЦК партии, некоторые учителя просто отказывались (из-за отсутствия условий или не считая это нужным) проводить экзамены. Сами эти испытания часто превращались в публичную пытку, особенно если на них присутствовали не только учителя и классный руководитель, а школьное начальство, родители и даже политработники. Ученики терялись при ответах на самые простые вопросы {475} 475 Федюшов Н. Преступная успокоенность: Просвещенцы города на помощь сельской школе // ЗКП. 1933. 27 мая. С. 1; Ученые на испытаниях в школе // Известия. 1936. 10 июня. С. 4; Перовский Е. И. Экзамены в советской школе. М, 1948. С. 50.
. Учителям не нравилось, что все лезут в их дела, да и потерять работу не хотелось, поэтому они шли на разные хитрости. Один бывший учитель вспоминал, как он проводил письменные экзамены:
«В вопросе проведения экзаменов все наши учителя собаку съели. У каждого имелись свои приемы для улучшения показателей. У меня, например, были две ручки: одной, с красными чернилами, я помечал ошибки, а другой, с синими, вносил исправления так, как будто это сделал сам ученик. Нам приходилось по мере возможности так «помогать» своим подопечным. Некоторые преподаватели проводили экзамены досрочно, хотя я это никогда не практиковал. В других классах учащиеся держали книги на коленях, а учитель не обращал на это внимания. Учитель всегда смотрел сквозь пальцы на происходящее в его классе, а если в это время к нему заходил перекинуться парой слов коллега, оба они делали вид, что ничего экстраординарного вокруг не происходит. Они в таких случаях просто разыгрывали комедию» {476} 476 HP. A. № 493. P. 21.
. [46] В главе 2 (примеч. 87) рассказано, как этот учитель находил способы обойти законы об обязательности обучения.
Сталинградская учительница Жарова заранее говорила ученикам, что им следует говорить, а потом ставила положительные оценки «независимо от качества ответа». Один бывший ученик вспоминал, что учитель исправил его ошибку своей ручкой. На вопрос, как часто это случалось, этот бывший ученик сказал: «Не очень часто, но при необходимости учителя всегда так делали» {477} 477 Нилов А. Учительница Жарова занимается очковтирательством // ЗКП. 1933. 24 мая. С. 3; HP. В. № 301. Р. 15-16.
. Эта «необходимость» говорит о том, что учитель во время экзаменов находился под сильнейшим прессом.
Экзаменам придавали большее значение, чтобы выяснить положение дел в школе, а в результате многим стало казаться, что показное рвение и усердие важнее эффективного преподавания. Учителя легко улучшали показатели успеваемости, просто завышая оценки. По замечанию Самарина, благодаря такой практике «официальные показатели академической успеваемости мало отражали действительное положение дел». Один инспектор докладывал, что только трое из сорока учеников по праву перешли в пятый класс, тогда как «остальные тридцать семь ничего хорошего не показали». По мнению одного бывшего учителя, дутые цифры были «большим недостатком системы… однако без них нельзя было обойтись» {478} 478 НА РАО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 21. Л. 49-50; Samarin V. The Soviet School. P. 45; HP. BIO. № 409. P. 10-11.
. Несмотря на намерение «мобилизовать все силы учащихся, укрепить чувство товарищества и взаимопомощь, усилить сознательное отношение к работе, а также исключить плохие оценки», количественный подход вызвал «процентоманию» — работу учителей оценивали лишь по числу успевающих учеников, не принимая во внимание, чему учат детей на уроках {479} 479 О том, как клеймили «процентоманию», см.: ЦАОДМ. Ф. 1934. Оп. 1. Д. 105. Л. 1а; Лихачев А. С. О подготовке к новому учебному году. С. 18; B. В. Всероссийское совещание актива учителей и руководящих работников народного образования. С. 140; Карпова Г. Ф. Образовательная ситуация в России в первой половине XX века. С. 175; Хозе, интервью.
.
От учителей требовали невозможного, и они были вынуждены создавать видимость благополучного положения дел. Обучение этой науке давалось нелегко, особенно новичкам вроде Крейслера, учителя в оккупированной Советами в 1939 г. Польше. Когда высокое начальство потребовало стопроцентной успеваемости, вспоминал Крейслер, директора школ взяли под козырек, но скоро шумиха поутихла, потому что в тогдашних условиях никакого толку от таких повышенных обязательств не было. В конце учебного года, однако, успеваемость в каждом классе сравнили с «ориентирами»: «Чем выше был процент успевающих, тем щедрее награждали и громче хвалили учителя». Крейслер получил выговор за то, что пятая часть его подопечных провалилась на экзаменах, и сменил тактику: «После этого я позаботился, чтобы свести к минимуму число неуспевающих, и к концу последнего семестра считался отличным педагогом». Однако приобретенный «опыт» вызывал у Крейслера противоречивые чувства — роль учителя он понимал совсем по-другому: «Мне преподали горький урок, он причинил мне боль и унизил меня; я узнал, как бесстыдно и почти открыто фабрикуются хорошие оценки» {480} 480 Kreusler A. A Teachers Experiences in the Soviet Union. P. 23-24.
.
Такая практика порождала безответственность, и некоторые учителя всячески старались снять с себя вину за плохую успеваемость. В конце 1936 г. обследование ленинградских школ выявило, что учителя-словесники половину провалов на экзаменах объясняют особенностями личности учеников: их ленью, беспечностью, недисциплинированностью или «слабоумием»; неуспеваемость еще трети учеников списывают на «объективные условия»: бедность, невнимание или болезни родителей; и неуспеваемость лишь шестой части учеников видят в плохом преподавании, причем винят за низкий уровень своих коллег, а не себя самих [47] На сей раз опросили только 50 учеников, однако местные чиновники сделали обобщения, словно было обследовано большинство школ. ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 69. Д. 2358. Л. 52.
.
Подобным образом инспектора в Горьковской области пришли к выводу, что учителя склонны объяснять низкую успеваемость и плохое поведение учеников не собственными упущениями, а чем угодно: жилищными условиями учеников, влиянием родителей, особенностями самих учеников, такими как «отсутствие способностей», «слабое умственное развитие», «плохая память» или другими качествами {481} 481 Огоньков Г. Сельские десятиклассники // ЗКП. 1937. 20 марта. С. 2. Исследование вопроса о правах и ответственности учителей в 1930-е гг. см. в моей работе: Ewing Е. Т. Restoring Teachers to their Rights: Soviet Educa-tion and the 1936 Denunciation of Pedology // History of Education Quarterly. 2001. Vol. 41, No. 4. P. 471-493.
. Учителя всегда предпочитали винить за плохие результаты учеников, окружение, своих коллег.
Интервал:
Закладка:


![Макс Вебер - Власть и политика [сборник]](/books/1067620/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik.webp)