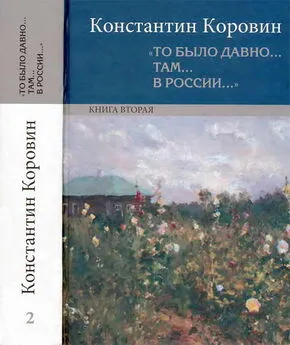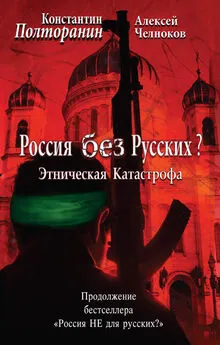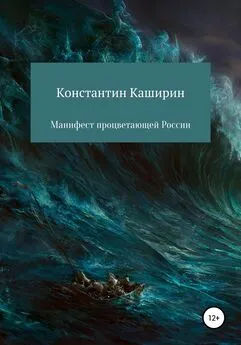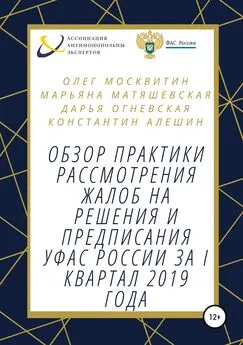Константин Битюков - Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг.
- Название:Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Астерион»f0edbaa9-50c8-11e2-956c-002590591ea6
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94856-562-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Битюков - Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг. краткое содержание
Работа посвящена политико-административной элите России начала XX века, неотъемлемой частью которой являлись великие князья. В ходе работы изучены причины и эволюция политических взглядов великих князей, результатом которой стал их переход от опоры монархии к оппозиции. Великокняжеская оппозиция рассматривается как элемент политического кризиса в Российской империи в 1915–1917 гг.
Для историков и широкого круга читателей.
Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Резкость ответа Николая II великим князьям можно объяснить не только его осведомленностью о разговорах великих князей, но и тем, что Николай Михайлович продолжал вести себя вызывающе. 29 декабря 1916 г., то есть в тот же день, когда было написано коллективное прошение, он вновь встречался с графом В.Б. Фредериксом. «Я объявил ему самым четким образом, что воздержусь от появления на встрече Нового года в Царском, чтобы не провоцировать, как всегда, инцидента с Мессалиной Дармштадской [императрицей Александрой Федоровной. – Е.П., К.Б. ] Старик стал смеяться и закончил заверениями, что все уладит», – писал великий князь Ф. Массону [596]. Не удовлетворенный этим обещанием, Николай Михайлович направил утром 31 декабря письмо Николаю II, или, как он пишет, «Его Величеству Императору». Официальность стиля роднит это послание со стилем коллективного прошения.
В письме Николай Михайлович просил дать распоряжение о подготовке будущей послевоенной конференции. «Это было достаточно умно придумано», – замечает он о собственной идее [597]. Фактически подобной просьбой он ставил Николая II перед выбором: либо тот допускает Николая Михайловича к политической деятельности, либо полностью отвергает его.
В тот же день великим князьям было возвращено их прошение с резолюцией, которая была процитирована и проанализирована выше, а 15 минут спустя после Нового года фельдъегерь принес Николаю Михайловичу ответ императора на его личное письмо. Его перевод с французского (текст письма имеется в послании Николая Михайловича к Ф. Массону) звучит следующим образом: «Очевидно, что граф Фредерикс все преувеличил: он должен был передать тебе мое устное распоряжение покинуть столицу и на два месяца поселиться в твоем имении Грушевке. Я прошу тебя сообразоваться с моими указаниями и не появляться на завтрашней встрече. Воздержись от занятий делами будущей конференции. Я возвращаю тебе бумаги, касающиеся комиссии по столетнему юбилею Александра II. Ники» [598].
Николай Михайлович отстранялся от дел и высылался в имение. Все двусмысленности последних дней были свалены на престарелого министра двора. Скандал на новогоднем приеме из-за возможного отказа великого князя целовать руку императрице был предотвращен. Сам Николай Михайлович отмечал «авторитарный тон в начале и “Я тебя прошу” потом, также как и подпись уменьшительным именем вместо Николая. Заметно и психическое расстройство мужа Мессалины [Николая II. – Е.П., К.Б. ], но в этот раз записка выдержана в таких выражениях, в которых чувствуется отсутствие ее влияния» [599]. И действительно, подпись «Ники» оставляла некоторую надежду на восстановление отношений в будущем.
Ссылка в имение Грушевка была, по сути, удалением из столицы человека, который не столько представлял угрозу для царствующих особ, сколько лишь подрывал их авторитет своими разговорами в Яхт-клубе. Убежденность императорской четы в его причастности к событиям 17 декабря говорит не об их осведомленности, а лишь о большой неприязни и предубежденности против Николая Михайловича. Великий князь выехал в имение вечером первого января.
29 декабря 1916 г. императорская чета получила еще одно письмо – от Елизаветы Федоровны [600]. Оно являлось отчетом о мыслях и чувствах великой княгини с момента встречи с Александрой Федоровной 3 декабря до 29 декабря. Это послание великая княгиня продумывала достаточно долго, хотя написала его в один день с коллективным прошением великих князей в Петрограде. Письмо выдержано в другой тональности («слабой, ничтожной, смиренной, но все же… верноподданной»), но содержит ту же мысль, что и у них, – о смягчении судьбы Дмитрия Павловича и Феликса.
Еще одной особенностью послания великой княгини является его религиозный характер, что характерно как для самой великой княгини, так и для всех ее писем императорской чете. Контент-анализом в данном случае следует пользоваться с осторожностью, так как оригинал письма написан на английском языке.
Послание Елизаветы Федоровны можно разделить на три части.
Первая посвящена тому, как она набиралась мужества, чтобы написать. Ведь в письме выражены мысли, очень схожие с теми, которые великая княгиня высказывала 3 декабря 1916 г. в разговоре с императрицей. « Я не могу понять, что значит твое молчание? (Подчеркнуто в оригинале. – Е.П., К.Б. )» – писала она. Далее следует рассказ о том, что сестра императрицы делала в этот период. Вечерня и заутреня у преподобного Сергия, т. е. в Троице-Сергиевой лавре, среди многого другого означали мысли о ее муже великом князе Сергее Александровиче, убитом 4 февраля 1905 г. эсером-террористом И.П. Каляевым, – грозное напоминание о политическом убийстве. Далее молитвы в Сарове и в Дивееве, местах, связанных с одним из наиболее почитаемых и любимых русскими православными, в том числе Николаем II, святых – Серафимом Саровским. Елизавета Федоровна указывает, что «молилась за всех, за твою армию, страну, министров, за слабых душою и телом (Подчеркнуто в оригинале. – Е.П., К.Б. ), и в том числе за этого несчастного, чтобы Бог просветил его. Когда я вернулась сюда, я узнала, что Феликс убил его!» [601]Молитвы за императорскую чету, за спасение военного и политического положения России, за Г.Е. Распутина – и восклицательный знак после сообщения об убийстве, знак, который раскрывает ее радостные чувства по поводу этого события.
Вторая часть письма посвящена ее оценке убийства Г.Е. Распутина. «Преступление остается преступлением, но это – особого рода и может быть расценено как дуэль и считаться актом патриотизма. А к таким поступкам должны применяться более мягкие законы». Фактически данная оценка убийства совпадает с точкой зрения других великих князей. Спасение престижа царской фамилии насильственным путем должно извинить, а участь виновников – смягчить. Более того, Елизавета Федоровна решается еще раз повторить то, о чем другие великие князья уже не смели упоминать в обращении к императору: о том, что это убийство может считаться актом патриотизма. Возможно, это происходило потому, что, во-первых, великая княгиня «не желала знать подробности», которые были отвратительны, а, во-вторых, она находилась в Москве, где мрачное настроение царской четы не ощущалось так, как в Петрограде. Намек на еще более поразительную оценку убийства содержится и в третьей части письма, где словами Иоанна Златоуста говорится, что когда «несчастья… дойдут до крайности… тогда Он [Бог] начинает чудодействовать». Убийству придается сакральный, почти священный характер! Оно представляется совершенным чуть ли не именем Божиим! И это после десяти дней молитв женщины, муж которой был убит террористом! В последней, третьей части письма также содержится призыв к Николаю II «взглянуть на вещи как они есть». На помощь себе Елизавета Федоровна призывает Бога, преподобного Серафима, Иоанна Златоуста – и это во имя единения всех и «нашего Государя», во имя наставления императора «на благо… страны, Церкви и дома [Романовых]!».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: