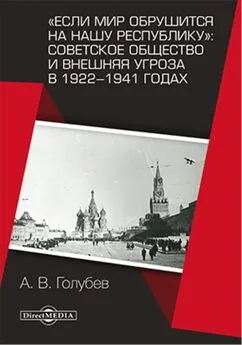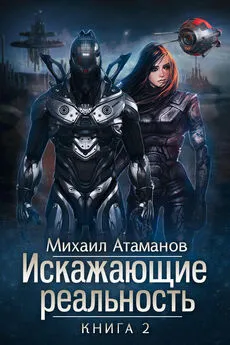Александр Голубев - «Если мир обрушится на нашу Республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1920-1940-е гг.
- Название:«Если мир обрушится на нашу Республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1920-1940-е гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кучково поле
- Год:2008
- Город:М.
- ISBN:978-5-901679-65-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Голубев - «Если мир обрушится на нашу Республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1920-1940-е гг. краткое содержание
Монография, написанная большей частью на основании впервые вводимых в научный оборот архивных источников, посвящена малоизученной теме — особенностям массового сознания советского общества в 20-40-е годы; сюжетам, связанным с «закрытостью» СССР, ожиданиями будущей войны; образам врага и союзника и т. п.
Работа может представлять интерес как для специалистов, так и для всех интересующихся историей нашей страны.
«Если мир обрушится на нашу Республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1920-1940-е гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Порой понятие «союзник» принимало более широкий характер; так, в ходе войны в официальных кругах России и части русского общества возникла идея сделать союзниками в борьбе с Германией поляков. Это требовало определенной корректировки политики по отношению к ним, и порой такая корректировка принимала довольно курьезные формы: так, в Большом театре дирекция решила убрать из оперы Глинки «Жизнь за царя» сцену убийства поляками Ивана Сусанина {527} 527 Фалькович С. М. Влияние культурного и политического факторов на формирование в русском обществе представлений о Польше и поляках // Культурные связи России и Польши XI–XX вв. М., 1998. С. 192.
.
Конечно, ход многолетней, тяжелой войны не мог не отражаться в массовом сознании и помимо пропаганды. Иногда вспоминали и о союзниках. Так, стабилизация Восточного фронта после русских неудач в Восточной Пруссии и предотвращение взятия немцами Парижа в самом начале войны («чудо на Марне») тут же нашли отклик в частушке, записанной в 1914 г.:
Немец битву начинал
И в Варшаве быть желал;
Шел обедать он в Париж —
Преподнес французик шиш {528} 528 Симаков В. И. Частушки про войну, немцев, австрийцев, Вильгельма, казаков, монополию, рекрутчину, любовные и т. д. Пгр., 1915. С. 9.
.
Здесь следует отметить, во-первых, равнозначность событий на Западном и Восточном фронте для автора частушки, и, во-вторых, то, что уменьшительное «французик» носит явно доброжелательный, даже ласковый характер.
Постепенно, однако, по мере усталости от войны в российском общественном мнении все ярче вырисовывается тенденция к подчеркиванию главной роли России в войне и обличению корыстных союзников, стремившихся за ее счет достигнуть своих целей. Вот что предлагал товарищ председателя тамбовского «Союза русских людей» А.Н. Григорьев Совещанию уполномоченных монархических организаций в августе 1915 г.: «Ввиду того, что вся тяжесть войны в настоящее время легла на Россию, просить Англию вновь формируемые ею армии посылать на русский фронт через Архангельск, а также привлечь и японцев к участию в сражениях на нашем фронте» {529} 529 «Борьба наша проиграна». Документы правых. 1914 — февраль 1917 гг. // Исторический архив. 1994. № 5. С. 44.
. В воспоминаниях британского генерала А. Нокса, относящихся к 1915 г., приводится беседа с генерал-квартирмейстером Западного фронта генералом П. Лебедевым, который «упрекал Англию и Францию за то, что они взвалили основную тяжесть войны на Россию» {530} 530 Цит. по: Россия и Запад… С. 277.
. После кровопролитных сражений 1916 г. эти настроения усилились. «В народных массах доверие к правительству и вера в союзников были окончательно подорваны», — писал начальник штаба 7-й армии генерал-лейтенант Н.Н. Головин [курсив мой — авт.] {531} 531 Цит. по: Нелипович С. Г. Наступление русского Юго-Западного фронта летом-осенью 1916 года: война на истощение? // Отечественная история. 1998. № 3. С. 48.
К концу 1916 — началу 1917 г. подобные взгляды получили широкое распространение, особенно среди нижних чинов и младших офицеров. Как всегда, наиболее негативно оценивалась роль Великобритании, готовой «воевать до последнего русского солдата», для чего англичане «втайне сговорились с начальством, подкупив его на английские деньги». Весной 1918 г. видный российский публицист А. Изгоев отмечал исчезновение симпатий к союзникам и повсеместное распространение «немецкопоклонства» {532} 532 Россия и Запад… С. 65, 277.
.
Вместе с тем в сознании российского общества с самого начала войны присутствовал и такой мотив: союзники не понимают и не хотят понять Россию. Уже в сентябре 1914 г. 3.Н. Гиппиус записала в своем дневнике: «Наши счастливые союзники не знают боли раздирающей, в эти всем тяжкие дни, самую душу России. Не знают и, беспечные, узнать не хотят, понять не хотят. Не могут». И позднее, в апреле 1915 г.: «Я люблю англичан. Но я так ярко понимаю, что они нас не понимают (и не очень хотят)» {533} 533 Гиппиус 3. Н. Петербургские дневники. 1914–1919. М., 1990. С. 27, 33.
. В ходе войны подобные настроения усиливались, получали новые подтверждения и только подогревали недоверие к союзникам.
После Октябрьской революции союзники, фактически встав на одну из сторон в гражданской войне, для победителей (и для значительной части населения) оказались врагами, организаторами интервенции и многочисленных заговоров («дело Локкарта», «дело Рейли» и т. д., и т. п.), и это, разумеется, отразилось в массовом сознании. Для другой же части населения они по-прежнему оставались союзниками, только теперь не против немцев, а против большевиков, как в прошлом, так, вероятно, и в будущем. Любопытно отметить, что в 1920-е гг. чаще всего в роли потенциального противника и возможного «освободителя» от власти большевиков выступала Англия. Германия, недавний враг в мировой войне и ближайший партнер советского правительства в эти годы, в массовом сознании присутствует слабо, в то время как Польша фигурирует достаточно часто, упоминаются также Франция, Япония, США, Китай (этот набор менялся в зависимости от географического положения той или иной губернии).
«Союзники» избирались массовым сознанием, исходя прежде всего из внутриполитических, а не внешнеполитических рассуждений (или Запад против «коммуны», или рабочие и крестьяне Запада как союзники СССР).
Например, летом 1928 г., ободряя верующих, один из священнослужителей Омского округа заявил: «Мы не одни, у нас есть союзники в лице Америки, Англии и других. Они нам очень и очень много помогают и Вы, граждане, не отказывайте нам в помощи [курсив мой — авт.]» {534} 534 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и материалы. В 5-ти т. Т. 1. Май 1927 — ноябрь 1929. Т. 1. М., 1999. С. 360.
Иногда встречались явно преувеличенные представления об общности интересов Запада и российского крестьянства. Так, в мае 1927 г. один из крестьян Амурского округа уверял, что «Англия предъявила коммунистам — сдаться без бою, и в России поставят президента, которого пожелают Англия или крестьяне России [курсив мой — авт.]» {535} 535 Трагедия советской деревни… С. 73–74.
.
Любое значительное событие в международной жизни, а иногда просто сообщения газет, приводили к появлению новых предполагаемых союзников. Так, в связи с конфликтом на КВЖД зимой 1930 г. в Поволжье распространился совсем уж экзотический слух о том, что изъятое у крестьян имущество власти возвратят, так как «коммунисты перепугались китайцев, которые обратно пошли на Россию». Зимой того же года в Архангельской области был зафиксирован лозунг «Долой Советскую власть, даешь поляков». От подобных лозунгов оставался только шаг и до практических выводов: «Как только Англия объявит войну на СССР, то мы в тыл Советской власти пойдем и не оставим в Москве ни одного живого коммуниста…» — говорилось в одном из писем 1927 г. в «Крестьянскую газету» {536} 536 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 19. Л. 138.
.
Интервал:
Закладка:
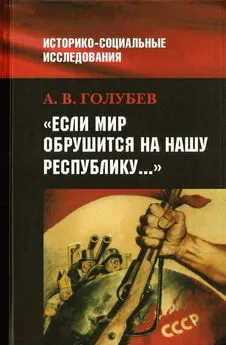
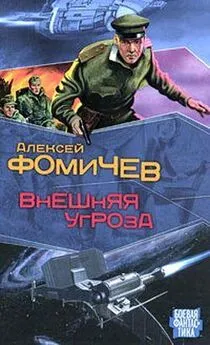
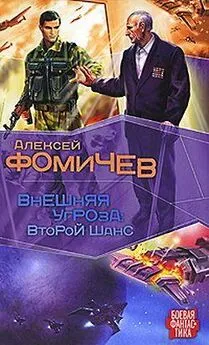

![Михаил Атаманов - Внешняя угроза [СИ]](/books/1084766/mihail-atamanov-vneshnyaya-ugroza-si.webp)