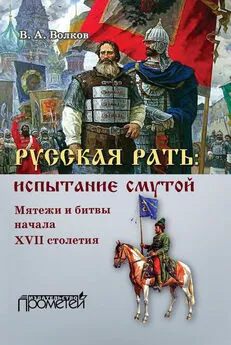В. Сиповский - Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия
- Название:Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Белый город
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:5-7793-1352-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Сиповский - Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия краткое содержание
Истерзанная и обнищалая Русь благополучно выходит из Смутной поры, вынеся из нее свою веру и народность в их целости. Сложнее положение в западнолитовской Руси. Еще долго приходится ей биться за сохранение своей Православной церкви и народа. На защиту Православия против Речи Посполитой встает запорожское казачество. Южная Русь наконец соединяется с единоверной и единокровной Москвой. Однако идет новое испытание — раскол в самой Русской церкви. И из него, несмотря на многие беды, выходит она целостной и неповрежденной. Обо всем этом читайте в четвертой книге «Родная старина».
Текст печатается по книге «Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XVI до XVII ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1904) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка.
Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

На женщину, как сказано уже, смотрели как на существо слабое, малосмысленное и притом склонное ко всему дурному. Не другом, не товарищем мужа была жена в старину, а рабой или, в лучшем случае, умственным и нравственным недоростком, нуждающимся в постоянной опеке и руководительстве. Добрая, то есть хорошая, жена, по понятиям того времени, должна была во всем руководиться указанием мужа, на все спрашивать его позволения: как распределять дневные занятия, как принимать гостей, даже о чем говорить с ними. Жить и действовать своим умом жене не полагалось. Даже если бы умная от природы женщина при случае высказала свои соображения, то это уже было бы, по старинным воззрениям, нарушением женской скромности, высокоумием и так же не понравилось бы нашим предкам, как нам, например, не нравится умничанье ребенка. Главными добродетелями жены считались, по учению книжников, «покорливость», молчаливость и трудолюбие: «Жена добра любит страду (работу) и воздержание от всякого зла. Жена добра — трудолюбива и молчалива». В поучении жене говорится: «Ты мужа имей во всем честна и бойся его и во всем честь воздавай ему и повиновение… Достоит женам повиноватися мужам своим… послушливым быти, понеже послушным Бог подает честь и славу, а непослушным горькую муку… Добрая жена и покорлива — венец мужу своему есть». В таких изречениях книжные люди старались представить образец доброй жены. Всякий хороший домовладыка обязан был учить ее уму-разуму словом, а если слово не действовало, то «страхом пользовать», то есть наказывать, причем пускалась обыкновенно в дело плетка, как советовал «Домострой».
В тех домах, где домоводство предоставлялось хозяйке, дела ей было много. Припомним, что у богатых и даже достаточных людей хозяйство в старину было большое и сложное. Двор таких хозяев представлял как бы помещичью усадьбу — тут были и скотный и птичий дворы, был огород и фруктовый сад. Число слуг в доме нередко превышало сотню — тут были повара, поварихи, портные, швеи, сапожники, плотники и другие. Хорошая хозяйка должна была за всеми досмотреть: распределить работу между женской прислугой, чтобы никто не сидел сложа руки и не гулял спустя рукава; показать, что и как сделать; присмотреть, чтобы все, что приказано, было исполнено, чтобы не переводилось понапрасну хозяйское добро; позаботиться, чтобы все слуги были сыты, одеты и довольны, чтобы не выходило между ними споров и неприятностей, чтобы всем в доме было хорошо. Исполнить все это было нелегкой задачей, и женщина, которая выполняла ее, действительно заслуживала большой похвалы. О такой жене-хозяйке говорится в «Домострое», что она для мужа «дороже камня многоценного», что она — «венец мужу своему». Но домоводство далеко не всегда предоставлялось женщине: у более богатых и знатных людей были на то ключники и дворецкие, а жене приходилось наблюдать лишь за рукодельницами и самой, если хотела, заниматься вышиванием. Одежды вышивались золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями — это требовало большого искусства, и работы было тут немало. Но все-таки однообразие ее, отсутствие сколько-нибудь разумного труда, общества и развлечений, крайняя пустота теремной жизни налагали свою печать на знатную русскую женщину. Занимаясь пустой болтовней с сенными девушками, слушая сплетни их и нехитрые шутки и прибаутки разных домашних дур, шутих да россказни приживалок, она вконец пустела, ум ее мельчал, и она действительно обращалась в «малосмысленное» существо — в умственного недоростка, нуждающегося почти на каждом шагу в указаниях и наказаниях мужа. Бывало и худшее. Иногда женщина, томимая скукой и пустотой теремной жизни, увлекалась всякими сплетнями, дрязгами и проделками, ум ее направлялся на разные уловки, чтобы провести нелюбимого мужа, посеять вражду между родичами его. Тут и плетка не помогала: страх наказания, не соединенный с любовью и уважением к наказующему, не исправляет человека, а озлобляет. Притом хитрость «малосмысленного существа» нередко торжествовала над суровостью домовладыки. Разные сплетницы под видом торговок да богомолок проникали в терема и много содействовали домашнему разладу. Таким образом, теремная жизнь отупляла женщину и развращала ее; «злая жена» являлась действительно «терновым венцом для своего мужа», и слова разных книг, где говорилось о злонравных женах, как будто оправдывались на деле. «Да, горе, горе мужу, если обрящет он жену льстивую, лукавую, крадливую, злоязычную, колдунью, еретицу, медведицу, львицу, змию, скорпию, василиску, аспиду. Горе, горе тому мужу!» — так восклицает отец в одной беседе с сыном о злонравных женах. Он истощает, кажется, весь свой запас страшных слов, чтобы обрисовать сыну самыми черными красками злонравную жену и отбить у него охоту к женитьбе. Таким образом, заключение в тереме и пользование «страхом» вели именно к тому злу, с каким думали бороться этими средствами.


Конечно, встречались семьи, где под влиянием христианского благочестия исполнялись лучшие советы «Домостроя». В семье был мир и лад, дом был как чаша полная, жилось всем хорошо, и хозяева не только заботились о своих детях, воспитывая их в духе благочестия, да о своих домочадцах, но принимали на свое попечение и чужих сирот и, как говорится, ставили их на ноги, выводили в люди. Но такие семьи были исключениями. В конце XVII века у некоторых передовых людей даже заводились иноземные обычаи, и женщина не отчуждалась от общества мужчин, не скрывалась от взоров посторонних людей; но большинство смотрело на это как на отступничество от благочестия, как на ересь своего рода. Гораздо чаще встречались семьи, где все в доме начиная с жены трепетали пред суровым домовладыкой, всегда готовым на жестокую расправу. Случалось, что озлобленные жены, доведенные до отчаяния, доходили до преступления — отравой изводили своих мужей. И случалось это, вероятно, не очень редко: недаром в Уложении определяется страшное наказание таким преступницам — закапывать живьем в землю. Для жены, не любимой мужем своим, единственным законным способом избавиться от его жестокости было уйти в монастырь, и то с его согласия. Бывали и такие случаи, что слабым мужьям приходилось искать защиты от сварливых и буйных жен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: