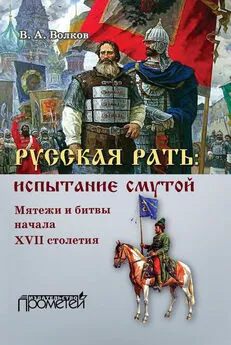В. Сиповский - Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия
- Название:Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Белый город
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:5-7793-1352-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Сиповский - Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия краткое содержание
Истерзанная и обнищалая Русь благополучно выходит из Смутной поры, вынеся из нее свою веру и народность в их целости. Сложнее положение в западнолитовской Руси. Еще долго приходится ей биться за сохранение своей Православной церкви и народа. На защиту Православия против Речи Посполитой встает запорожское казачество. Южная Русь наконец соединяется с единоверной и единокровной Москвой. Однако идет новое испытание — раскол в самой Русской церкви. И из него, несмотря на многие беды, выходит она целостной и неповрежденной. Обо всем этом читайте в четвертой книге «Родная старина».
Текст печатается по книге «Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XVI до XVII ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1904) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка.
Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Незавидно было и положение царицы: она принуждена была еще более, чем боярыни, скрываться в тереме от людских очей. Дела ей было очень мало, и вся жизнь ее была подчинена строгой и тяжелой обрядности. Отправляясь на богомолье, царицы и царевны совершали свои поездки по большей части ночью, а если случались выходы днем, то делалось это по определенному чину, причем по обе стороны их несли суконные полы, чтобы скрыть их от взоров посторонних людей. Особенно печально было положение царевен: они должны были жить во дворце как пустынницы, в посте и молитве. Выйти замуж за подданных считалось для них унизительным, а за иностранных принцев — мешало разноверие.

Об уме женщин мало заботились, даже обучать их грамоте не считалось нужным. Немудрено, что в мелочных заботах о нарядах, в пересудах и пустой болтовне с теремной прислугой глохли умственные способности женщины. «Московского государства женский пол, — говорит Котошихин, — грамоте не ученые, и не обычай тому есть, а породным разумом простоваты, и на отговоры несмышлены и стыдливы». Это было, вероятно, одной из причин, почему царицы и царевны не присутствовали при приеме и угощении иностранных послов: они могли только из потаенного места смотреть на торжество. Государыни иноземного происхождения (София Фоминична, Елена Глинская) не чуждались иностранцев: они могли и в разговоре с ними вполне поддержать свое достоинство.
Женщина в мирской жизни должна была быть женой — в этом признавалось ее прямое назначение. На дочь смотрели тоже как на будущую жену. «Вскормить, вспоить и замуж выдать в добром здравии» — вот как определялась задача родителей по отношению к дочери. Со дня рождения дочери «Домострой» советует родителям уже понемногу заботиться о «наделке», то есть о приданом. Для девушки, не вышедшей замуж, как бы не было места в миру — ей оставалось уйти из него, то есть поступить в монастырь. На вдову, особенно бездетную, смотрели как на сироту. Она нередко также удалялась в монастырь, а не то одевалась в «смирную» вдовью одежду в знак своего сиротства, в знак того, что в мире она уже не имеет того значения, как мужняя жена. Но вместе с тем, конечно, она имела больше самостоятельности, особенно «матерая» вдова, то есть та, которая была матерью, имела несовершеннолетних сыновей, опека над которыми лежала на ней.

При указанном взгляде на девушку понятно, что родители в старину старались во что бы то ни стало выдать дочерей замуж; причем свахи и сваты были важными пособниками, старались подыскать жениха, чтобы был равен по породе, «в одну версту», как говорилось тогда, с невестой, чтобы роду ее не было никакой «порухи». Когда через свах родители невесты и жениха получали необходимые сведения, то отцы сходились и обстоятельно договаривались о деле, главным образом о приданом. О согласии на брак у жениха и невесты не спрашивали: они не могли не желать того, чего желали их отцы. Притом надо заметить, что женили молодых людей обыкновенно в очень юные годы, когда родители имели основание смотреть на них как на ребят малосмысленных. Жених и невеста не могли даже и видеться до самого брачного обряда, а получали сведения друг о друге от свах. Случались нередко и обманы: вместо одной дочери показывали свахе другую, более красивую, а не то выставляли служанку вместо уродливой дочки. «Нигде нет такого обманства на девки, — говорит Котошихин, — как в Московском государстве». Понятно, какая участь ждала девушку, обманом выданную замуж; расчет родителей, что авось стерпится-слюбится, не всегда сбывался.

Такие были порядки в боярском быту. У людей менее знатных и небогатых настоящего затворничества женщины не было и все отношения были проще, хотя и тут родовые понятия о том, что отец семьи есть полновластный домовладыка, волю которого беспрекословно исполнять должны были все, то есть жена, дети и все домочадцы, у которых своей воли не должно быть, господствовали во всей силе. Этот взгляд проникал и всю народную жизнь.
Положение женщины-простолюдинки было очень тяжело; таким почти оно остается в большинстве случаев и до сих пор. Глубокой грустью проникнуты свадебные и семейные песни, которые издавна вылились, конечно, из сердца женщины. Хотя в XVII веке уже не было обычая «умыкать», то есть насильственно уводить, невест, не было и продажи их, на что указывается в иных свадебных песнях, но все-таки брак был делом родителей, все-таки жених и невеста являлись часто при этом людьми подневольными. По-прежнему девушке приходилось менять при замужестве известное, привычное житье-бытье в отцовском доме на неведомое — в мужнином, а неизвестное всегда кажется страшным. «Уж как чужая-то сторонушка, — говорится в одной песне, — горем вся испосеяна, она слезами поливана, печалью огорожена». Да и как не представлять этой чужой сторонушки, то есть мужниного дома, чем-то страшным, когда муж ищет в жене прежде всего «вековечной работницы, свекру-батюшке покорливой, свекрови-матушке послушливой, деверьям-братьям услужливой»? Трудно всем угодить. А как не сможешь «в чужих людях жить умеючи, держать голову поклонную, ретиво сердце покорное», тогда примутся учить уму-разуму и свекор-батюшка, и свекровь-матушка, а не то и муж. «Ах, вечор меня больно свекор бил, а свекровь ходя похваляется», — поется в одной песне, а в другой рисуется мрачными красками положение жены у лютого мужа. Мать два года не видела дочку, которую отдала «далече замуж», на третье лето едет ее навестить — и не узнает ее. «Что это за баба, за старуха? Где твое девалося белое тело? Где твой девался алый румянец?» — спрашивает она у дочки. «Белое тело, — отвечает та, — на шелковой плетке, алый румянец — на правой на ручке: плеткой ударит — тела убавит, в щеку ударит — румянцу не станет».

Чем грубее среда, тем более в ней сказывается стремление у сильных поработить себе и принизить слабых. Понятно отсюда, что участь женщин в простом быту не могла быть красна. «Вековечная работница» крестьянка, трудясь весь век свой, большей частью у печи, у колыбели да у корыта, не привыкла широко раскидывать умом, поотстала она от мужа и в сметливости. «У бабы волос долог, да ум короток», — говорит он, а отсюда следует, что ей не должно жить своим умом и надо повиноваться во всем своему владыке-мужу, а он обязан держать ее в страхе. «Бей бабу, что молотом, — сделаешь золотом», — говорит пословица. Свыкается с этим и женщина. «Бьет муж, значит любит, хочет ума-разума придать», — утешается она. Но случается, что муж и без пути бьет ее — с хмелю или так, хочет волюшку свою померить, силушкой своей потешиться. Тут порой не стерпеть, и жалоба вырвется: «В девках сижено — горе мыкано; замуж выдано — вдвое прибыло». Но не всегда же так тяжело жилось простолюдинке. Здравый смысл и природная доброта русского человека брали нередко верх над грубостью и суровостью; умеет он и ценить хорошую жену. «Добрую жену взять, — говорит он, — ни скуки, ни горя не знать».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: