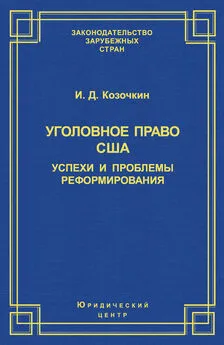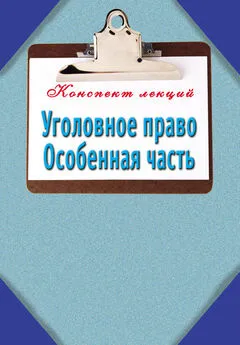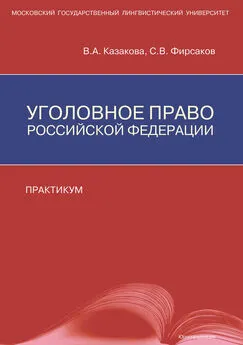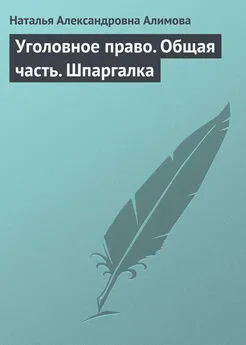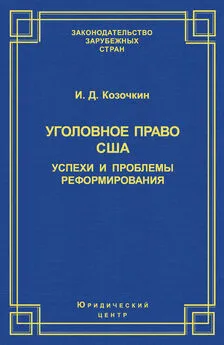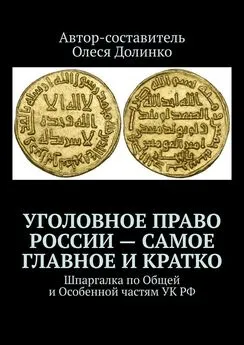Иван Козочкин - Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования
- Название:Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94201-510-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Козочкин - Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования краткое содержание
Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, исследователей, специализирующихся в области уголовного права США, практических работников, а также всех интересующихся уголовным правом зарубежных стран.
Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во многих судебных решениях при рассмотрении соответствующих дел отмечается, что указанное время продолжается до тех пор, пока лицо не достигнет «места временной безопасности». Понятие – весьма растяжимое!
Второй аспект – причинно-следственный – представляется еще более сложным, поэтому, по-видимому, не случайно некоторые авторы обходят молчанием этот вопрос.
Ф. М. Решетников отмечает, что вопрос о причинной связи изложен в Примерном УК явно неудачно. Поэтому, продолжает он, положения о причинной связи не были восприняты уголовными кодексами штатов: их составители предпочли оставить решение этого вопроса юридической доктрине и судебной практике [986].
Это в полной мере относится и к причинной связи между фелонией и смертью потерпевшего. Те авторы, которые затрагивают вопрос о причинной связи, отмечают отсутствие какого-либо общего, выработанного судебной практикой подхода к ее решению. По одним делам, где, казалось бы, причинная связь есть, суды не признавали лицо виновным в убийстве, по другим – наоборот.
В 1982 г. Верховный суд штата Массачусетс рассмотрел дело, суть которого состояла в следующем. Обвиняемый был нанят, чтобы отвезти другого из Бостона в Питтсфилд для получения игорного долга. По прибытии на место во время возникшего конфликта обвиняемый убил должника. Суд определил правило “felony-murder” как разновидность «конструктивного злобного предумышления». Отметив, что это правило основано «на теории, что намерение совершить фелонию равносильно злобному предумышлению, требуемому для тяжкого убийства», суд в заключении отметил: теория применима только в случаях, когда фелония является таковой, что обнаруживает «сознательное пренебрежение к человеческой жизни, бессердечность, жестокость, неосторожность к последствиям и безразличное к общественному долгу состояние ума» [987].
Наличие или отсутствие причинной связи нередко выводится не столько из того факта, что смерть причиняется с целью облегчить совершение фелонии или обеспечить успешное бегство с места ее совершения, сколько из презюмируемой опасности самой фелонии, независимо от того, совершалась ли конкретная фелония опасным или насильственным способом или нет. Другими словами, если лицо добровольно принимает участие в совершении какой-либо опасной фелонии, то оно осознает, что смерть является возможным последствием ее совершения. Такое утверждение в какой-то степени можно считать оправданным в случаях, когда круг фелоний законодательно ограничен, так как он обычно включает наиболее опасные преступления – против личности (например, половые посягательства) и некоторые – против собственности, которые, по терминологии российского уголовного права, можно отнести к так называемым двухобъектным (например, ограбление, берглэри или поджог). В других же случаях решение вопроса всецело зависит от усмотрения суда.
В уголовных кодексах штатов, где содержится перечень фелоний, при посягательстве на которые лишение жизни признается тяжким убийством, иногда предусматриваются определенные изъятия из правила “felony-murder”. Так, утверждающей защитой от обвинения в тяжком убийстве II степени, по УК Нью-Йорка, в частности, является то, что обвиняемый не имел при себе смертоносного оружия, предмета или вещества, способного причинить смерть или тяжкий телесный вред, и что у него не было разумных оснований полагать, что таковые имел при себе какой-либо участник преступления (п. 3 (b, с) ст. 125.25). В тех же случаях, когда в уголовных кодексах круг опасных фелоний не определен или не является исчерпывающим [988], решение вопроса, полностью или частично, зависит от суда.
И, наконец, четвертое ограничение состоит в том, что смерть должна быть непосредственно причинена лицом, совершившим или пытавшимся совершить фелонию, или соучастником преступления [989]. В рамках этого ограничения также рассматриваются вопросы причинной связи, а кроме того – ответственности соучастников. Последний в судебной практике встает особенно остро, когда фелония имела групповой характер, в ходе совершения которой смерть причиняется одному из соучастников жертвой данного преступления, лицом, пытающимся ее защитить, или полицейским, а также в случаях, когда такие лица, осуществляя законное право на защиту или выполняя служебный долг, причиняют смерть лицу, не являющемуся участником этого преступления.
В большинстве штатов, где затрагивался этот вопрос, суды применяли теорию так называемого представительства (agency theory), которая означает, что доктрина или правило “felony-murder” «не распространяется на убийство, которое, хотя и произошло в ходе совершения фелонии, если оно непосредственно связано с действием какого-либо лица, но не обвиняемого или его соучастника по незаконному предприятию» [990].
В концептуальном плане эта теория выглядит следующим образом. Не совершивший убийства участник фелонии не отвечает за действия другого лица – несоучастника ее, например, полицейского или прохожего, убившего невиновного. Но, с другой стороны, – и в этом, пожалуй, суть теории, – если участник фелонии совершает убийство невиновного, его соучастник несет ответственность за убийство так, как если бы первый был его представителем. И в этом – одно из проявлений института субститутивной ответственности [991].
Однако некоторые суды продолжают применять теорию «ближайшей причинности» (proximate causation), согласно которой участник фелонии несет ответственность за любое убийство, явившееся ее непосредственным результатом, независимо от того, был ли стрелявший участником фелонии или третьей стороной [992]. Верховный суд штата Иллинойс в одном из своих последних решений по данному вопросу аргументировал применение этой теории следующим образом: «Если лицо покушается на совершение насильственной фелонии, чем приводится в действие цепь событий, которые были или должны были быть им предвидимы, когда это началось, оно должно нести ответственность за любую смерть, которая как прямое и почти неизбежное следствие является результатом первоначального преступного действия» [993].
Как тут не вспомнить слова Дж. Флетчера о том, что доктрина, признающая участников фелонии виновными в тяжком убийстве при отсутствии достаточной объективной и субъективной связи между ними, «слишком привлекательна для правоохранительных органов, чтобы они легко сдались и отказались от нее, поскольку создает высокую степень вероятности осуждения за самое тяжкое преступление и предоставляет обвинителям большие возможности использования этой угрозы в ходе сделок о признании вины» [994].
В отдельных штатах теория «ближайшей причинности» применяется в несколько ограниченных пределах, когда возложение ответственности зависит от того, кто был убит, если стрелял непреступник, или заменяется рассмотренной выше. В связи с этим определенный интерес представляет для своего времени весьма громкое дело Альмейды, рассмотренное в штате Пенсильвания в 1949 г.: соучастники были признаны виновными в смерти полицейского, убитого другим полицейским в ходе перестрелки, завязавшейся между полицией и грабителями. Один из них был приговорен к пожизненному лишению свободы, а другой – к смертной казни на основании правила “felony-murder” [995]. Однако спустя много лет, после того, как смертный приговор был приведен в исполнение, дело Альмейды было пересмотрено на основании теории «представительства» [996].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: