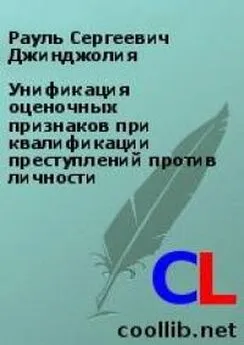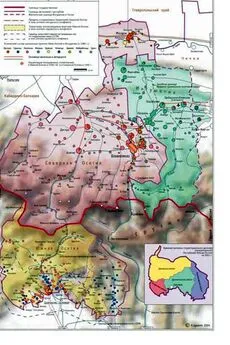Рауль Джинджолия - Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности
- Название:Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЮНИТИ- ДАНА
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-238-00751-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рауль Джинджолия - Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности краткое содержание
Для студентов и аспирантов юридических вузов, научных и практических работников.
Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По утверждению Ю.А. Демидова, «личность» — понятие социальное. Личность выступает, прежде всего, как социальный тип, производный от социального типа того общества, который формирует и определяет ее. Поэтому из многих факторов, определяющих социальный тип личности, главным является все же принадлежность ее к тому или иному классу, а вместе с ним — к тому или иному классово-организованному обществу [93] Демидов Ю.А. Социальная ценность в уголовном праве. — С. 55.
. Вместе с тем понятие «личность» шире понятия «гражданин», поскольку последний термин указывает в основном на политический аспект статуса индивида и его принадлежность к определенному государству. В уголовном праве РФ понятие «личность» применяется к индивиду, достигшему на момент совершения преступления 14 или 16 лет (ст. 20 УК РФ), тогда как гражданин — это совершеннолетний человек, которому исполнилось 18 лет.
Поэтому представляется целесообразным рекомендовать законодателю внести коррективы в название раздела VII, который, на наш взгляд, должен именоваться «Преступления против человека». В ином случае правоприменитель будет вынужден воспринимать в данном разделе УК термины «личность», «лицо», «человек» как недостаточно конкретизированные понятия.
Отметим, что глава 17 раздела VII объединяет преступления, посягающие на свободу, честь и достоинству личности, но ст. 126 этой главы названа «Похищение человека». Тем самым нарушено логическое соотношение содержания этих понятий не только в масштабе раздела, но и внутри» глав и статей по определению объекта преступных посягательств. Однако ясно, что границы объема главы, не должны быть нарушены отдельными видами входящих в ее перечень преступлений. Это, в частности, относится и к содержанию главы 18, куда включены все «половые» преступления, которые в родовом определении объекта посягательства отнесены к личности. Между тем, как следует из названий и текстов, входящих в главу статей 134 и 135, в числе потерпевших могут быть малолетние, слабоумные и другие лица, которые личностями не являются.
Кроме того, глава 19 раздела VII названа «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина», но при этом создается впечатление, что, объект главы определен шире, чем в разделе. Если в данном конкретном случае термин «гражданин» используется в понятии физического лица, то правоспособность последнего возникает с момента его рождения. Отсюда понятие «гражданин» может быть отождествлено с понятием «человек», но при этом оба этих определения становятся равнозначными и дублируют друг друга, что затрудняет понимание сущности и содержания охраняемого блага.
Недостаточно формализована, слабо обоснована и лишена внутренней логики и такая новация, как включение в УК РФ понятия «рецидив преступления» (ст. 18 УК РФ), являющаяся своеобразным компромиссом института ответственности между деянием и деятелем с переносом ее акцента на деяние.
Иной подход ранее отчетливо и тенденциозно проявлялся в ст. 24№ УК РСФСР, где предусматривалось дополнительное наказание лица за предыдущее пребывание в местах лишения свободы. Например, совершенная без отягчающих обстоятельств, кража влекла согласно ст. 144 УК РСФСР лишение свободы на срок до двух лет или наказывалась исправительными работами на тот же срок. Если же кража была совершена особо опасным рецидивистом, то это лицо могло быть осуждено к лишению свободы на срок от четырех до десяти лет с обязательной конфискацией имущества (ч. 4 ст. 144 УК РСФСР). Тем самым строже наказывалось не само деяние, а его совершившее лицо.
По мнению ряда авторов, отсутствие в УК РФ упоминания о рецидивисте и использование понятия «рецидив преступлений» в большой степени отвечает принципу равенства перед законом, закрепленном в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ и в ст. 4 УК РФ. При этом отмечается, что в УК РФ рецидив преступлений теперь является не квалифицирующим обстоятельством преступления, а условием назначения более строгого наказания на основании и в пределах, предусмотренных ст. 5 УК РФ [94] См., например: Жеребкин В.Е. Логический анализ права. — С. 22.
.
Другие авторы придерживаются на этот счет противоположного мнения, полагая «принципиальным недостатком» именно то обстоятельство, «что действующий УК отказался от признания особо опасного рецидивиста квалифицирующим признаком составов преступлений», и что «опасный и особо опасный рецидивы девальвированы до уровня рядового отягчающего наказания обстоятельства» [95] См,, например: Уголовный кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий /Отв. ред. Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский. — С. 38.
. На их взгляд, «ни в криминологическом, ни в уголовно-правовом отношении такое решение не представляется удачным» [96] Там же. С. 39.
. При этом подчеркивается, что рецидив — наиболее опасная форма преступной деятельности, поскольку неоднократное совершение преступлений свидетельствует об упорном нежелании лица вести общественно полезный образ жизни.
Здесь следует отметить, что ни в Конституции РФ, ни в УК РФ, ни в каких-либо иных законодательных актах не предусматривается безусловное требование вести общественно полезный образ жизни — явно оценочное понятие, нигде не конкретизированное. Не содержится в них и никаких предписаний относительно направленности той либо иной деятельности или желаний и мыслей. Более того, Конституция РФ (ч. 1 ст. 29) устанавливает, что каждому гарантируется свобода мысли и слова, а в ч. 1 ст. 13 декларируется идеологическое многообразие. Поэтому никому не может быть инкриминировано «выражение собственных убеждений и чувств», в том числе, как мы полагаем, и тех, в которых выражается «упорное нежелание лица вести общественно полезный образ жизни». Любое лицо судят не за мнения, стремления или желания, а за конкретные уголовно наказуемые деяния.
В этой связи нам представляется совершенно неадекватным ситуации решение, предложенное законодателем и реализуемое правоприменителем, когда за убийство из ревности собственной жены лицо, ранее неоднократно совершавшее умышленные преступления, будет наказан, согласно ст. 18 и 63 УК РФ, более сурово, нежели его ранее несудимый сосед — алкоголик за аналогичное преступление. Остается совершенно непонятным, почему, например, многократно судимый вор должен более терпимо относится к супружеской измене, нежели все другие (ранее несудимые) люди, и подвергаться более суровому наказанию за это преступление на том основании, что до убийства неверной жены был несколько раз осужден за кражи [97] См.: Зелинский А.Ф. Повторение преступления как преступная деятельность //Государство и право. 1995. № 12. — С. 56.
.
Интервал:
Закладка: