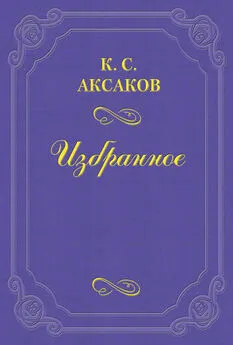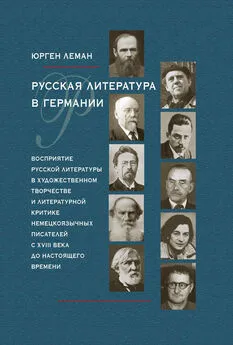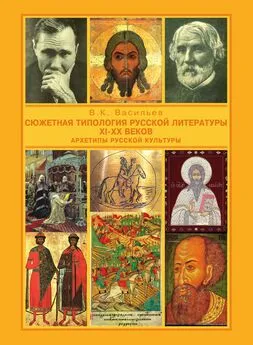Петер Ханс Тирген - Amor legendi, или Чудо русской литературы
- Название:Amor legendi, или Чудо русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2244-8, 978-5-7598-2328-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петер Ханс Тирген - Amor legendi, или Чудо русской литературы краткое содержание
Издание адресовано филологам, литературоведам, культурологам, но также будет интересно широкому кругу читателей.
Amor legendi, или Чудо русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Самостоятельно выстроенный дом может быть залогом осмысленной vita activa и хранительным убежищем, но может стать кандалами и тюрьмой. Редуцированной формой дома является комната, символические функции которой делают ее в равной степени пространством защищенности и пространством регрессии. Вторичной редукцией является кровать, которая тоже может быть с одной стороны местом защищенного покоя и счастья, но с другой – прокрустовым ложем. Жизнь Обломова протекает в основном в комнате и на кровати, т. е. на диване: Штольц называет их «болотом» и «ямой». Лежачий образ жизни Обломова повествователь определяет как его «нормальное состояние» (ч. I, гл. 1); в результате существования Обломова в этой как бы мышиной – или кротовой – норе его жизненный горизонт сузился до «микроскопических размеров» (ч. I, гл. 8; ч. IV, гл. 9) [642]. Концом же являются «гроб» и «могила», что Обломову, впрочем, изначально известно: «я сам копаю себе могилу» (ч. II, гл. 4). Подобные дому хранительные пространства не обязательно уберегают от экзистенциальной бездомности и «преждевременной старости души» [643]. Тем не менее они остаются предметом томления по пространству беззаботности.
Место действия многочисленных произведений новейшей литературы обозначено в их названиях как «дом» или «комната», а их пространственная организация использует явный или ассоциативный потенциал замкнутых или открытых пространств [644]. Модернизм обострил восприятие таких коррективных и коррелятивных пространственных и поведенческих моделей как обширность – узость, динамика – статика, охота к перемене мест – домоседливость, неугомонность – сдержанность, глобализация – локализация в постранстве, гражданин мира – Диоген в бочке. Сколько безопасности нужно человеку – необязательно изгою и отверженному? Сколько заменителей жизни могут сотворить фантазия и духовный мир? Как homo interior , или почвенник, соотносится с homo mundanus , или гражданином мира? Обломов сожалеет о своем существовании в мышиной норе, но боится любого путешествия и избегает широкого поприща жизни. Он – узник в своей собственной темнице. С кем он делит свою жизнь? Не с Ольгой, да и не с Агафьей, не со Штольцем и не со своим сыном, в честь Штольца названным Андреем, – ребенка воспитывают Штольц и Ольга. Посвятил ли он свою жизнь искуссту, науке, повседневной работе, деятельному человеколюбию, управлению своим поместьем? Это риторические вопросы. Будучи бездомным в жилище, работе, любви и идеалах, Обломов, как и человек-обломок современности, по видимости – пленник, в душе – бесприютен; ему нет места в жизни.
III. Инакость: проблема «другого»
В трезвые минуты самооценки Обломов сознает, что он упустил свое «человеческое назначение», поскольку он уклоняется от фундаментальных «жизненных вопросов» и тем самым играет в прятки со своей совестью. Тогда он проливает «холодные слезы безнадежности» по своей дисбулической инертности (ч. I, гл. 8; ч. IV, гл. 9). Ему очень хорошо известны масштабы целостной и полной жизни, требуемой гуманизмом, просвещением, самостоянием и устремленностью к идеалам. Видя эти масштабы, он не может не чувствовать себя ущербным существом, и это снова имеет своим следствием страх перед сравнением с «другими» – особенно если эти другие являются незаурядными и достойными людьми. Из чувства самосохранения Обломов не может подолгу задумываться об этих «других». Поэтому alteritas , инакость, становится для него принципиальной провокацией – в тексте романа это более чем очевидно.
Главе «Сон Обломова» (ч. I, гл. 9), предлагающей подробный анамнез тех причин, которые привели героя к «нормальному состоянию» лежания в «спокойствии и апатии», Гончаров предпосылает обширную главу, в которой сначала доктор, а потом слуга Захар осмеливаются критически сравнить Обломова с «другими» (ч. I, гл. 8). В то время как Обломов мечтает о беззаботно-далекой от реальности уютной жизни, Захар увещевает его заняться, наконец, очередными будничными делами (управление имением, переезд, выплата долгов) – и присовокупляет к этому рассуждение: что удается другим, должно удаться и Обломову. Эта ссылка на «других» вызывает у Обломова почти паническую реакцию смертельной обиды, описанную повествователем следующим образом: «Обломов долго не мог успокоиться… ‹…› Он в низведении себя Захаром до степени других видел нарушение прав своих на исключительное предпочтение Захаром особы барина всем и каждому». Слова «другие», «другой» употреблены в речи автора и героя романа более 30 раз (!); их настойчиво акцентирует периодическое выделение курсивом (!). Захар, сравнивающий барина с «другими», обозван барином «ядовитым человеком». Масштаб «других» становится своего рода отравой, ранящей самолюбие Обломова, и он запрещает Захару впредь сравнивать его с «другими». Тем самым он воспроизводит мировоззрение своих обломовских предков, которые даже теоретически никогда «не представляли себе другого житья-бытья ‹…› другой жизни и не хотели» (ч. I, гл. 9).
Однако идеал «человеческого назначения», как видно, не совсем угас в душе героя. Он задается вопросом: «Что же это такое другой ?» и даже приходит к пониманию того, что иногда надо жить сообразно с чувством долга, как «другие», и не искать «виноватого вне себя». Этот взгляд на «других» в конце концов ведет Обломова не только к экзистенциальному вопросу «отчего я… такой?», но даже и к чему-то вроде констатированного повествователем самоосуждения: «Он вздыхал, проклинал себя» (конец гл. 8).
«Инакость» ( Heterótes, Illeität [645]) является дискуссионным понятием начиная с античной древности. Но лишь XX в. осознал проблему «другого» как междисциплинарную, на грани философии, психологии и социологии [646]. Самосознание человека как акт самоидентификации осуществляется только в рядоположении, со- или противопоставлении (следовательно, как корреляция и/или конфронтация) с «другим», который может представлять собой «родственное ты» или «чуждое визави». Человек находится в поле зрения «другого»; эта видимость (Visibilität) означает одновременно возможность успеха и опасность. Сильные натуры самоутверждаются в поле зрения «другого», слабые характеры, подобные Обломову, напротив, боятся быть увиденными.
Обломов пытается избегнуть возможности быть публично замеченным в обществе Ольги, чтобы не быть принужденным играть официальную роль жениха. Он не хотел бы сделаться в поле зрения «другого» очевидным про-исшествием = про-зрением [647]. Ему не хватает мужества для открытого, публичного прямо-само-стояния как исповедуемого принципа подчиненной чувству долга жизни и деятельности. Соответственно, и Ольгу он в любой момент готов уступить «другому», если бы она этого захотела (ср.: ч. II, гл. 12). Этим кажущимся великодушием замаскирована чрезмерная склонность Обломова к пассивности. Освобождение предполагает самостоятельные усилия по завоеванию свободы. Когда Обломов снова и снова подчеркивает свою готовность на уступку в пользу «другого», Ольга совершенно внятно комментирует это «самопожертвование»: «Это не любовь. ‹…› Это уловка лукавых людей предлагать жертвы, которых не нужно или нельзя приносить, чтоб не приносить нужных» (ч. III, гл. 7).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: