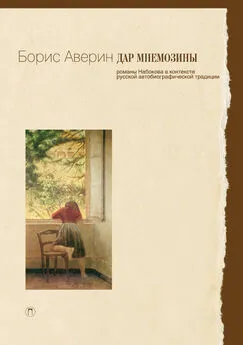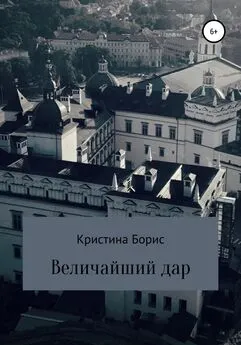Борис Аверин - Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции
- Название:Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2016
- ISBN:978-5-521-00007-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Аверин - Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции краткое содержание
Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
175
Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 502–503.
176
См. об этом: Kozlik F. C. L’influence de l’anthroposophie sur l’ uvre d’Andrei Bielyi. V. 2. P. 555–561, 569–570, 580–581. Здесь, в частности, отмечено, что память, по Штейнеру, связана с инициацией: с периодом между смертью и новым рождением (Р. 558), что память открывает путь к бессмертию (Р. 559), что человеку доступно воспоминание о том, что было до его рождения (Р. 569–570, 580–581). В «Воспоминаниях о Штейнере» Андрей Белый писал: «Миг первой встречи с Рудольфом Штейнером поднял в душе моей уже тему воспоминаний, встречаясь с мигом воспоминаний» ( Белый Андрей. Воспоминания о Штейнере. Paris, 1982. С. 6). Там же говорится о влиянии на замысел «Котика Летаева» лекций Штейнера, посвященных, в частности, «одновременному ВЫМИРАНИЮ из одной перспективы и ВРОЖДЕНИЮ в другую» (Там же. С. 116–117).
177
Белый Андрей. «Единство моих многоразличий…»: Неотправленное письмо Сергею Соловьеву / Публ. А. В. Лаврова // Москва и «Москва» Андрея Белого. М., 1999. С. 421.
178
Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 396 (письмо от 29 сентября 1926 г.).
179
Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. № 6. М., 1992. С. 365. См. также с. 363, 364.
180
Белый Андрей. На рубеже двух столетий. С. 178.
181
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 152.
182
Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 3 т. М., 1986. Т. 1. С. 235–236.
183
Белый Андрей. На рубеже двух столетий. С. 195.
184
Иванов В. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. СПб., 1995. Кн. 2. С. 7.
185
Белый Андрей . На рубеже двух столетий. С. 178.
186
Там же.
187
Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1966. Т. 6. С. 9.
188
Флоренский П. А. Детям моим. С. 678. Любопытно свидетельство Д. Е. Максимова, который впервые прочел «Котика Летаева» в возрасте пятнадцати лет. Воспитанный в семье «народников», где, естественно, с недоверием относились к символистам, он был совершенно не подготовлен к чтению Белого. Тем не менее книга не только понравилась ему, но даже повлияла на его последующие литературные привязанности. Для нас интересно объяснение, которое дает этому Д. Е. Максимов: «Может быть, думается сейчас – ощущение этой поэтической связи, разрушившее часть моих юношеских предубеждений против Белого, стало возможным потому, что я, подросток с еще живой в душе памятью о незапамятном, довременном детстве, не успел подавить тех младенческих переживаний, которые соединяли меня с героем Белого, – они были достовернее для меня, чем для моих близких, взрослых» ( Максимов Д. Е . Русские поэты начала века. Л., 1986. С. 352). Юношескому сознанию, в котором еще не окончательно стерся собственный младенческий опыт, «Котик Летаев» оказывается ближе, чем сознанию взрослых, считавших книгу выдуманной и неясной.
189
Ср. трактовку «Котика Летаева» как книги, в которой дано феноменологическое описание поиска собственной субъективности: Molnar M. Body of Words: A Reading of Belyi’s «Kotik Letaev». Birmingham, 1987. P. 1–53. Здесь подчеркнуто, что этот текст следует толковать не в рамках картезианской дихотомии «сознание/объект», а в рамках дихотомии «субъект/мир».
190
Белый Андрей. Начало века. С. 521.
191
Сопоставление поэтики «Приглашения на казнь» с поэтикой «Котика Летаева» см.: Johnson D. B. Belyj and Nabokov: A Comparative Overview. P. 384–386.
192
На сей раз не внутренний мир уподобляется дому, но дом, родительская квартира отождествляется с «Я» ребенка.
193
Андрей Белый и антропософия. С. 364.
194
Там же. С. 368.
195
Штейнер Р. Философия свободы. Ереван, 1993. С. 104.
196
О концепции «Другого» у Андрея Белого и Вячеслава Иванова см.: Ханзен-Лёве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний символизм. С. 111.
197
Брюсов В. Дневники. М., 1927. С. 121.
198
Зелинский К. Профессорская Москва и ее критика // Зелинский К. Критические письма. М., 1934. Кн. 2. С. 189.
199
Вольпе Ц. О мемуарах Андрея Белого // Андрей Белый. Между двух революций. Л., 1934. С. XXIV.
200
Тимофеев Л . Последняя книга А. Белого // Художественная литература. 1934. № 1. С. 13.
201
Белый Андрей. Между двух революций. М., 1990. С. 9.
202
О расширяющемся спиралевидном движении как основном конструктивном принципе мировосприятия и мироописания в «Котике Летаеве» см.: Janeèek G. The Spiral as Image and Structural Principle in Andrej Belyj’s «Kotik Letaev» // Russian Literature. 1976. № 4. October. P. 357–364.
203
Тютчев Ф. И. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 131.
204
Сходное детское переживание, с тем же воспоминанием тютчевского стихотворения описывает Флоренский: «Это чувство откровения тайн природы и ужаса, с ним связанного, тютчевской Бездны и влечения к ней…» ( Флоренский П. А. Детям моим. C. 611).
205
Андрей Белый и поэты-мифотворцы символизма были убеждены в аналогии между филогенезом культуры человечества и развитием индивидуального сознания. С точки зрения А. Ханзен-Лёве, «Котик Летаев» является произведением, парадигматическим для этой идеи. См.: Hansen-L ve A. Der russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung. Wien, 1978. S. 168–172; Hansen-L ve A. «Erinnern – Vergessen – Ged chtniss» als Paradigma des russischen Symbolismus. Teil 1: Diabolisches Modell // Wiener Slavistischer Almanach. 1985. Bd. 16. S. 101–102.
206
Флоренский П. А. Детям моим. С. 673.
207
Бунин И. А. Собр. соч. Т. 6. С. 21.
208
Там же. С. 37.
209
Белый Андрей. На рубеже двух столетий. С. 220.
210
Там же.
211
Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 133.
212
Августин Аврелий. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. М., 1991. С. 60.
213
Гёте И. В. Поэзия и правда. М., 1969. С. 39.
214
Короленко В. Г. Собр. соч. Т. 5. С. 13.
215
Бунин И. А. Собр. соч. Т. 6. С. 9, 10, 21. Ср. наблюдение С. Ваймана: «Бунин видит свою задачу не в раскрытии сокрытого, но в сокрытии раскрытого. Он движется от знания к незнанию, от ответов к вопросам» ( Вайман С. Параметры эстетической мысли. Историзм. Метод. М., 1997. С. 177).
216
Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 198.
217
Соловьев В. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 78. «Герметическая (стихотворная) риторика мифотворческой поэзии» зрелого символизма «трактует пустую, редуцированную, деформированную, безреферентную, беспредметную устную или письменную речь как прямое выражение „невыразимого“, то есть как язык таинственного, чья непонятность, многозначность, богатство нюансов, неопределенность и т. п. оцениваются позитивно, как выражение существенного, непосредственого, абсолютного, бытийного – в мире феноменального, опосредованного, относительного» ( Ханзен-Лёве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний символизм. С. 166). О разных типах «непонятного» текста см. также: Левин Ю. И. Тезисы к проблеме непонимания текста // Семиотика: Труды по знаковым системам. Тарту, 1975. Т. 7. С. 83.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: