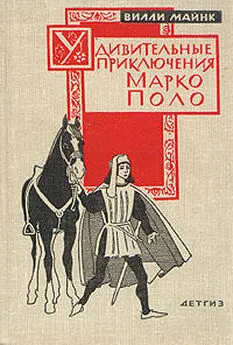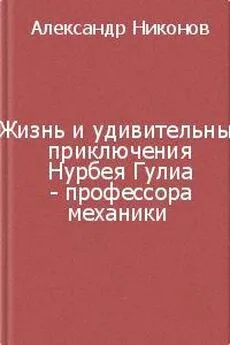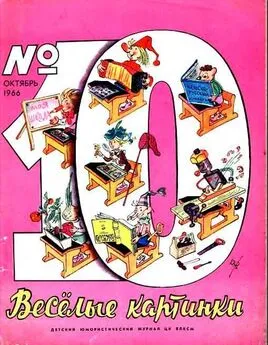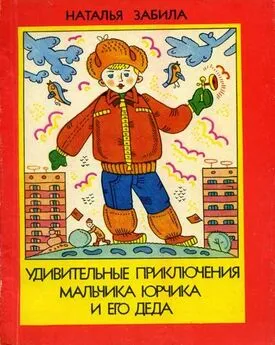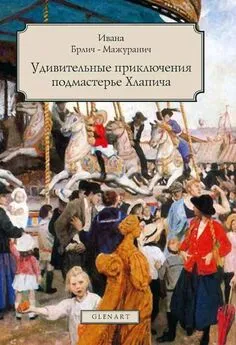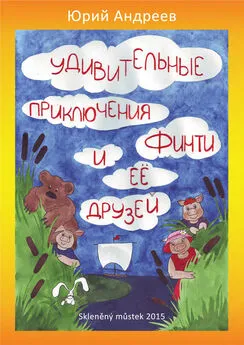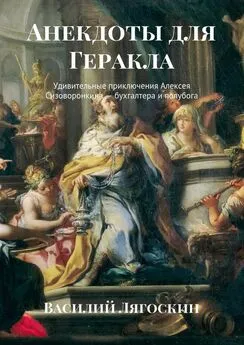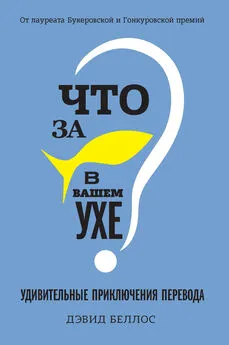Дэвид Беллос - Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода]
- Название:Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-16787-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Беллос - Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода] краткое содержание
Дэвид Беллос
Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В сферу деятельности этих османских переводчиков, называвшихся tercüman , входили дипломатия, шпионство и административные интриги. В английский язык этот турецкий термин вошел в форме dragoman , но в слегка измененном виде его можно найти и в языках десятков других народов, контактировавших с турками. Азербайджанское tǝrcümǝçi, амхарское ästärgwami, tarjomân на языке дари, персидское motarjem, узбекское tarzhimon (таржимон), арабское mutarjim, tẹrzman на марокканском арабском, metargem (םגרתמ) на иврите — все это звуковые переводы слова tercüman. Но как бы ни писать османское название переводчика — tercüman или dragoman , — это слово вовсе не турецкое. Впервые оно встречается в языке, на котором говорили в Месопотамии в 3-м тысячелетии до н. э., как перевод еще более древнего шумерского слова eme-bal. Таким образом, аккадское слово targumannu (которое — посредством турецкого tercüman — породило английское, хотя и заведомо устаревшее, но все еще существующее слово dragoman ) — возможно, единственное слово с устойчивым значением, чью письменную историю можно проследить на протяжении пяти тысяч лет {65} 65 Общепринято, что помимо этого в английский из аккадского вошло всего одно слово — ziggurat (пирамидальный замок), но это произошло лишь в XIX в.
. Происхождение одного из самых распространенных слов для обозначения переводчиков из колыбели письменности в древней Месопотамии — что может лучше свидетельствовать о том, что и сама переводческая деятельность имеет удивительно долгую историю?
Ведущие османские переводчики становились в один ряд с послами. Первый Великий драгоман, получивший этот титул от султана, был назначен в 1661 году во времена правления великого визиря Ахмед-паши из династии Кёпрюлю, чьи приключения отразил в своих произведениях Исмаиль Кадаре {66} 66 Рассказ «Вестник беды» и роман «Мост с тремя арками» дополняют в этом отношении «Дворец сновидений».
. Более поздний Великий драгоман, Александр Маврокордат, основал династию, которая впоследствии получила княжеский титул. Румынская королевская семья — его прямые потомки.
Будучи дипломатами и переговорщиками, использовавшими в наиболее деликатных делах устный, а не письменный перевод, драгоманы со своими письменными переводами обходились как с устными. Драгоманы изменяли слова паши, чтобы наилучшим образом отразить намерения султана и продемонстрировать верность ему, потому что измена каралась в лучшем случае смертью. Их перевод ни в коем случае нельзя было назвать вольным — драгоманы переиначивали слова владыки в соответствии с его желаниями. Несмотря на значительные сокращения, добавления и переложения, драгоманы жестко придерживались задачи: переводить не слова, но речь султана.
Например, когда султан Мурад II даровал английским купцам право торговли на османских землях, в его собственноручном письме на турецком говорилось, что королева Елизавета продемонстрировала свою покорность и преданность и объявила о своем служении и верности султану. Для передачи английскому двору письмо было переведено Великим драгоманом на итальянский, который оставался для Османской империи языком международного общения {67} 67 Французский начал использоваться в этой роли в XVII в., а в XIX полностью вытеснил итальянский.
. Однако на итальянском от всего этого не осталось и следа: велеречивая турецкая формулировка сократилась до sincera amicizia [64] Заверения в дружбе ( ит. ).
{68} 68 Пример взят из кн.: Lewis B. From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East. Oxford UP, 2004. P. 29.
.
Что это — вольный перевод или неправильный? Думаю, что оба эти определения здесь неприменимы. Драгоман опустил слова про «покорность» и «служение» не из свободолюбия, а из политических и административных ограничений, которые накладывала на него должность. Зная, что его хозяин никогда не признает королеву Англии равным себе монархом, он в то же время как опытный дипломат понимал, что Елизавета I не может признать свою подчиненность султану, даже в рамках цветистой вежливости.
Западные посольства в Стамбуле не прибегали к услугам официальных переводчиков Османского двора, которые были обязаны сохранять лояльность своему суверену. Они нанимали менее выдающихся, в основном не мусульманских стамбульских билингвов. Поскольку устная культура, сложившаяся за несколько столетий османского правления, становилась им все менее знакомой, западные дипломаты все больше жаловались на ненадежность своих левантийских посредников. Прежде всего их сердило, что не меньше половины из написанного посредниками и выдаваемого за перевод с английского являлось выдумкой чистейшей воды в духе:
Склонив голову в покорности и коснувшись рабскими бровями в знак полного смирения и повиновения благотворной пыли под ногами моего могущественного, милостивого, снисходительного, сострадательного и милосердного благодетеля, моего самого щедрого и великодушного властителя, я молюсь, чтобы несравненный и всемогущий спаситель благословил ваше благородное величество, верх совершенства, и защитил моего благодетеля от превратностей и болезней, продлил дни его жизни, его могущество и его великолепие…
Кроме того, любую крупицу информации, которую им удавалось почерпнуть из своих переводов для иностранных посольств, переводчики выставляли на продажу. Как выразился один английский посол, поскольку драгоманы «со своими большими семьями живут на небольшое жалованье, имея привычку к восточной роскоши, им трудно устоять перед искушением деньгами» {69} 69 Ibid. P. 27.
.
Легко понять, почему драгоманам приходилось подстраиваться к аудитории — они были османскими подданными и, доставив неудовольствие властям, могли потерять гораздо больше, чем если бы неправильно представляли своих иностранных нанимателей:
Страх сковывал им языки: они гораздо охотнее рискнули бы вызвать неудовольствие нанимателя, чем вызвать жестокую ярость паши… Иногда оказывалось, что находчивые переводчики импровизировали воображаемые диалоги, заменяя речами собственного сочинения реально произнесенные {70} 70 Abbott G. Under the Turk in Constantinople. Macmillan, 1920. P. 46. Цит. в неопубликованной диссертации: Laffan J. Navigating Empires: «British» Dragomans and Changing Identity in the Nineteenth-Century Levant. U. of Queensland, Australia.
.
Сам факт работы на иностранное посольство ставил их под подозрение. Зачем же удваивать потенциальную опасность, обращаясь к местным властям без цветистых комплиментов, к которым те привыкли? Добавление нескольких абзацев про вечную преданность было не неправильным переводом, а страхованием жизни. «Учитывая все обстоятельства, удивительно не то, что драгоманы неадекватно выполняли свою опасную работу, а то, что они вообще за нее брались» {71} 71 Ibid.
.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Дэвид Беллос - Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода]](/books/1068186/devid-bellos-chto-za-rybka-v-vashem-uhe-udiviteln.webp)