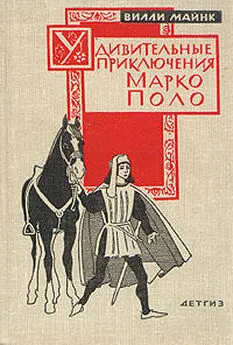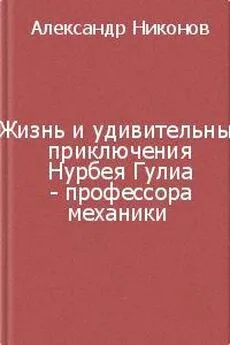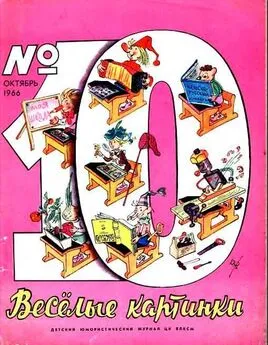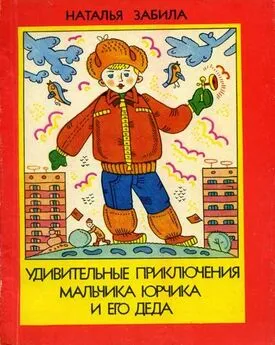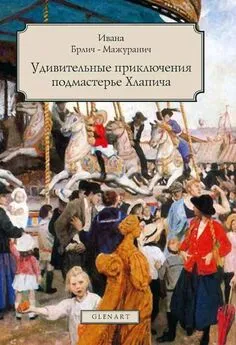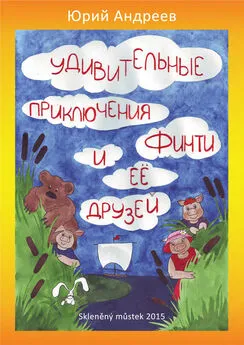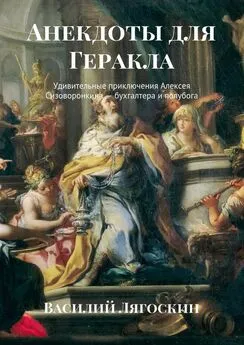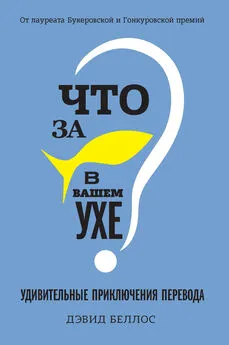Дэвид Беллос - Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода]
- Название:Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-16787-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Беллос - Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода] краткое содержание
Дэвид Беллос
Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Очевидно, что для османских драгоманов верность была важнейшим вопросом, но она имела не тот смысл, который западные переводоведы вкладывали в понятие «верность оригиналу». Драгоманам было важно доказать, что они верны падишаху или тому конкретному османскому вельможе, к которому обращались.
Самый великий из фанариотских драгоманов заплатил самую высокую цену, будучи заподозрен в предательстве. В 1821 году в греческих провинциях Османской империи вспыхнул мятеж. Фанариотские семьи в Стамбуле тут же подпали под подозрение, потому что тоже были греками и к тому же католиками. Их глава, Великий драгоман Аристарх Ставраки, был повешен за измену. Почему? Потому что, как издавна принято было говорить на османском языке международного общения, traduttore/traditore : переводчики в любом случае предатели!
Эта своеобразная поговорка — на итальянском и в переводах — проникла во многие западные языки, став одним из самых цитируемых высказываний о переводе. Однако, за исключением немногих экстремальных случаев, оно неверно и никогда не было верным. Переводческая деятельность драгоманов была в высшей степени подчиненной — как задаче оригинала, так и подлинным хозяевам драгоманов. Предательство — это то, чего эти хозяева боялись, а не то, что делали драгоманы. Но даже если фанариоты иной раз ради собственной выгоды и искажали слова заказчиков, в современных, основанных на печатных материалах обществах связь между переводом и предательством отсутствует. В мире, где перевод всегда можно сравнить с оригиналом, даже если речь идет об устном выступлении (спасибо звукозаписывающим устройствам, которыми мы пользуемся последние сто лет), нет более основания для опасений и недоверия к языковым посредникам, как это было в бесписьменных обществах. Но люди продолжают повторять traduttore/traditore , полагая, что сообщают что-то дельное о переводе. Даже такой вдумчивый переводчик, как Дуглас Хофштадтер, считает своим долгом оспорить этот тезис с помощью игры слов в заглавии своего эссе: Translator, Trader [65] Переводчик, трейдер ( англ. ).
{72} 72 Опубликовано вместе с романом Франсуазы Саган «Сигнал к капитуляции» (La Chamade) в переводе Дугласа Хофштадтера ( Hofstadter D. That Mad Ache. Basic Books, 2009).
. Хоть мы и живем в сложном, обеспеченном, технологически развитом обществе, но когда дело доходит до переводов, выясняется, что некоторые люди застряли в эпохе водяных часов.
Когда в XIX веке индивидуальные поездки на Ближний Восток стали реальными и вошли в моду, западные туристы столкнулись с местными традициями недоверия к устным переводчикам. При общении с властями туристам приходилось полагаться на местных посредников, и семьи наследственных драгоманов взялись за выполнение обязанностей гидов, квартирьеров и помощников при покупках антиквариата и прочих радостей. Они действовали, следуя своим традициям крайне адаптивного перевода, вызывая насмешки и пренебрежение. «Драгомания» — боязнь и неприязнь по отношению к посредникам, которым удавалось обводить вокруг пальца всех, кроме самых хитроумных западных путешественников, — внесла большой вклад в создание стереотипа «коварного азиата» из рассказов о путешествиях времен колониализма {73} 73 См.: Cunningham A. Dragomania: The Dragomans of the British Embassy in Turkey // Middle Eastern Affairs. 1961. 2. P. 81–100.
.
Метафоры «верности» и «предательства» применительно к переводам пришли к нам не только из исчезнувшего османского прошлого. Во Франции XVII века некоторые переводчики греческой и латинской классики сочли уместным подправить в своих переводах оригиналы так, чтобы они больше соответствовали правилам куртуазности, которым подчинялось поведение и литература при Версальском дворе. Бранные слова и упоминания о физиологии попросту выбрасывались, равно как и целые пассажи, связанные с пьянством, гомосексуализмом и полигамией. Непоколебимо уверенные в абсолютной правильности французских придворных манер, эти переводчики пытались создать произведения, более подходящие для их целевой аудитории, а также (с их точки зрения) более правильные и красивые. Они спасали греков от них самих, вымарывая все эти примитивные дефекты. Намеренно переделанные в расчете на придворных (или детей), эти классические тексты назывались les belles infidèles — в буквальном переводе «неверные красивые» [ж. р.].
Соседство этих двух прилагательных подразумевает отсутствующее существительное, и это, безусловно, traductions , переводы. По сути, выражение les belles infidèles означает лишь «прекрасные вольные переводы». Однако во французском языке прилагательные с предшествующим артиклем могут трактоваться и как существительные, точно так же как the poor [66] Бедные ( англ. ).
или the unwashed [67] Немытые ( англ. ).
в английском. А поскольку les belles стоит в форме женского рода и множественного числа, то выражение может означать и «красавицы», а фразу les belles infidèles в целом можно трактовать как «неверные красавицы». Эта конструкция привела к возникновению еще одной поговорки о переводах, которая с тех пор отягощает все разговоры о них. Переводы, утверждается в этой поговорке, как женщины: Si elles sont belles, elles sont infidèles, mais si elles sont fidèles, elles ne sont pas belles. Если они красивы, то неверны, а если хранят верность, то лишь потому, что они старые клуши. По общепринятым стандартам это довольно вольный перевод, но именно это подразумевается в поговорке (хотя ее можно перевести и в другом ключе: эстетически привлекательные — адаптивны, неадаптивны лишь простушки). Тень этой сексистской чепухи и сейчас падает на одно французское издательство с его в остальном восхитительным списком переводов, названное Les Belles Infidèles.
Во Франции, как и в англоязычном мире, сексистский язык стал объектом долгих и в основном успешных кампаний; но мало кто замечал, что если во Франции XVII века эта фраза считалась вежливой, то в наше время выражение les belles infidèles как в трехсловной форме, так и в виде построенной на его основе более длинной поговорки оскорбительно для женщин. Для большинства оно приемлемо, потому что считается утверждением о переводах. Но это не так. Оно о мужских тревогах, доходящих до уровня женоненавистничества. Подозреваю, оно потому и применяется к переводам, что — как и в целом этот мотив предательства — свидетельствует о страхе перед ними.
Иные говорят, что хорош тот перевод, который верен оригиналу. Следствием этого было бы утверждать, что плохой перевод — это своего рода предательство, до некоторой степени оправдывая таким образом затасканные и постыдные клише, которые мы попытались опровергнуть. Такое следствие звучало бы правдоподобно, если бы мы знали, что имеем в виду, говоря, что верный перевод — это хороший перевод. Почему слово верный вообще применяют к переводам? Действительно, хорошая супруга верна, а достойный разведчик не предает. Мы также привыкли требовать от слуг верности хозяевам. Но переводчики не женятся на оригиналах и не работают в ЦРУ. Настойчивые требования верности как критерия качества перевода безусловно заставили многих переводчиков называть себя слугами оригинала. Тем самым они возвращаются к историческим и даже доисторическим истокам своей профессии, демонстрируя навыки рабов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дэвид Беллос - Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода]](/books/1068186/devid-bellos-chto-za-rybka-v-vashem-uhe-udiviteln.webp)