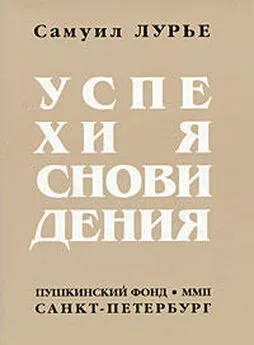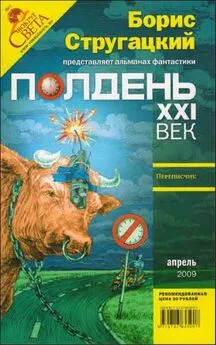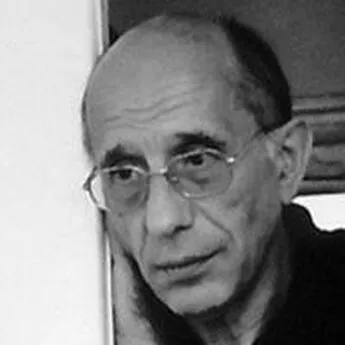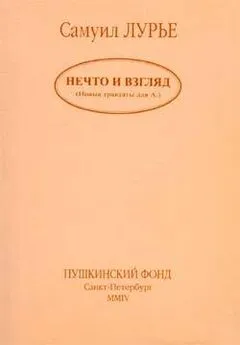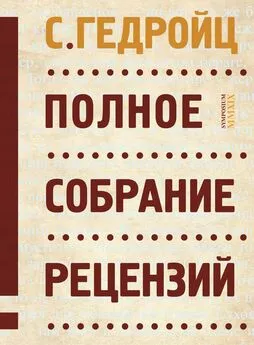Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres]
- Название:Полное собрание рецензий [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИП Князев
- Год:2019
- ISBN:978-5-89091-529-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres] краткое содержание
Полное собрание рецензий [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И что новелла Клейста «Михаэль Кольхаас» посвящена «проблеме индивидуального террора, той самой, которой впоследствии посвятил большую часть своего творчества Ф. М. Достоевский» (с. 33). По-моему, тут триада некорректных утверждений, – особенно первое поразительно. Этак и «Юлий Цезарь» Шиллера – антитеррористическая трагедия (а других и не бывает), а Шиллер в «Разбойниках» – вообще – изучает организованную преступность… А я-то думал – Кольхаас погибает за идею правового государства. (Кстати: отчего не упомянуть, что Клейст однажды провел полгода в берлинской тюрьме?)
Все это, конечно, вполне поправимые пустяки. Главное – автор напал на золотую тему. Тут роится вокруг столько потрясающих сюжетов: например, драма Андрея Белого; столько примечательных текстов: да хоть бы «Zoo» Виктора Шкловского, например… Масса историй даже поинтересней, чем литературная биография Фридриха Горенштейна (хотя и без нее нельзя), и бездна неизученных фактов. Может получиться такая книга – русский читатель ей благодаря поверит, пожалуй, что и Берлин обладает душой. А немец – что русская литература состоит не только из Достоевского и Владимира Сорокина.
Уценено
Лев Толстой. Война и мир: Первый вариант романа
Роман / Предисл. И. Захарова. – М.: Захаров, 2000.
Лев Николаевич, несомненно, убил бы г-на Захарова (если только это реальный человек, не просто издательская марка), – а мне, признаюсь, его мысль симпатична. Первоначальный то есть порыв, если только я правильно его себе представляю. Я и сейчас не вполне забыл, – а семнадцать лет прошло! – с каким восторгом читал впервые восхитительный 89-й том «Литнаследства» – ах, какие там вдобавок иллюстрации! – где неведомая мне тогда Э. Е. Зайденшнур опубликовала этот черновик. Перед ее подвигом преклоняюсь и до сих пор не знаю более убедительного примера, когда сам себе пытаюсь доказать, что филология – не пустяки. Разобрать 1800 огромных листов, исписанных с обеих сторон убористым и пронзительным каким-то почерком, да еще на двух языках, – да еще с помарками, вымарками, вставками, рисунками, – а во многих главах и не Толстого почерк, а переписчиков, – и еще какой-то даме он диктовал, не самой грамотной на свете, – и все это прочитать и переписать в совершенном порядке, без единой ошибки, – притом ведь просто из любви, потому что какие там слава или деньги, смешно, – из одной любви – к тексту, что ли? – допустим, к тексту; бывают, значит, такие чужие тексты, что дороже зеницы ока…
Да за одно то, что имя этой замечательной женщины и непревзойденная работа упомянуты на обороте титула этой книги, я готов г-ну Захарову простить почти все.
Но не все.
Впрочем, счеты сведем чуть позже. Сперва о тексте. Он – у Толстого, то есть в «Литературном наследстве», – в некотором смысле не хуже, чем окончательная редакция. Неровный, иногда небрежный: то пропущено слово, то повторяется мысль, – и многие места не доведены до пластической отчетливости, – но зато темп стремительней и температура выше. Явственней работа воображения (тут-то и задумаешься и поймешь во всей силе значение избитого глагола «сочинять»: не самое ли странное из человеческих занятий? Мужчина в расцвете сил расхаживает по комнате, выдумывая других людей, и диктует их разговоры, – и его не тащат в желтый дом…), это еще не совсем литература – дальше от мастерства и ближе к творческому акту.
Так что это не обман – аршинными, так сказать, буквами на контртитуле:
Настоящий Лев Толстой.
Настоящая «Война и мир».
Обман – еще более жирно напечатанное тут же слово впервые.
Не обман, что это «первая полная редакция великого романа». Образованный человек поймет, как следует: первый законченный черновик. А необразованный все равно получит удовольствие.
Необразованного г-ну Захарову явно не жаль: пускай себе прозябает в другой ноосфере, в параллельной вселенной, где одна из библий не такая, как у нас, у образованных, – а попроще:
«1. В два раза короче и в пять раз интереснее.
2. Почти нет философических отступлений.
3. В сто раз легче читать: весь французский текст заменен русским в переводе самого автора.
4. Гораздо больше „мира“ и меньше „войны“.
5. Князь Андрей и Петя Ростов остаются живы».
Первые два пункта и последние два – безобидная реклама. Даже полезная – потому что и необразованный, но мало-мальски сметливый читатель догадается о существовании другой книги с таким же названием – не совсем настоящей, зато покруче, не для слабонервных, про войну…
А вот пункт «в сто раз легче читать» описывает проделку варварскую, которая низводит эффектное издание в ранг курьезных.
Именно здесь, в этом тексте, сохранившем живой голос Льва Толстого, – я уже говорил, многие главы надиктованы, и это слышно! – так с ним поступить!
Во всех автографах, – свидетельствует Э. Е. Зайденшнур, – имена Nicolas, Lise во французской транскрипции, и при диктовке Толстой, видимо, так и произносил; у г-на Захарова – Николай и Лиза, конечно. (Бывают даже случаи – по крайней мере, один мне бросился в глаза, – когда Nicolas вообще пропадает. У Толстого Соня думает: «Я люблю Nicolas и буду его женой или ничьей…» У г-на Захарова: «Я люблю и буду его женой или ничьей…») Но ведь звук совсем другой! И когда у г-на Захарова княгиня Болконская вместо Andrè говорит – Андрей, – никак не отделаться от дикого предположения, что она обращается к буфетчику. И если Andrè – по-русски Андрей, то почему же тогда Hèlène – Элен, а не Елена?
Предположим, это мелочи – хотя и противные, – подумаешь, звучание имен! – а что скажете о таких – бесчисленных! – случаях, когда французская или немецкая речь у Толстого заключает в себе два голоса, как бы сразу – две интонации, одну поверх другой: персонаж в эту минуту нравится себе и не нравится автору – фальшивит, или рисуется, или говорит трюизм либо пошлость? Это даже почти всегда так в романе «Война и мир»: переходя на иностранную речь, персонаж говорит не своим голосом – кривляется, – и саркастический тенор передразнивает его, поддерживая в нас иллюзию, будто мы видим тут людей насквозь.
Зачем далеко ходить – этот прием – очень важный, излюбленный, – преподан в первой же фразе – то-то Л. Н. искал ее чуть не год и начал роман с пятнадцатой попытки:
«– Eh, bien, mon prince, Gкnes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья de la famille Buonaparte…» – и проч.
Небось как радовался Лев Николаевич, набредя на эти «des… поместья», и гордился как тонкой удачей: вот ведь как одним движеньем из чужой интонации создал свою – и сразу занял свое место за ширмой, над сценой… Неужто не слышит этого г-н Захаров? Неужто ему в самом деле в сто раз легче прочесть:
«– Ну что, князь, Генуя и Лукка стали не больше как поместья, поместья фамилии Бонапарте»?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres]](/books/1076062/samuil-lure-polnoe-sobranie-recenzij-litres.webp)