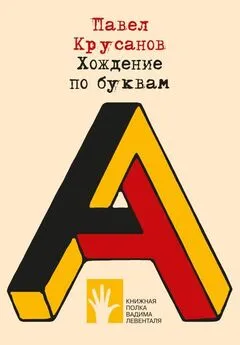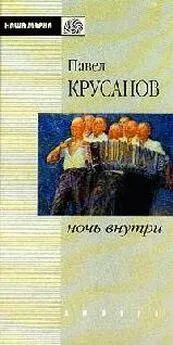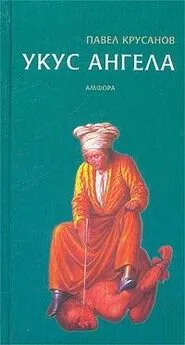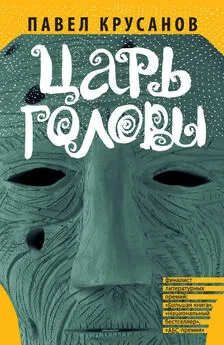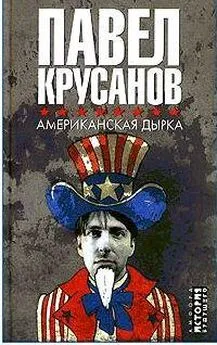Павел Крусанов - Хождение по буквам
- Название:Хождение по буквам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Флюид ФриФлай
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906827-09-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Крусанов - Хождение по буквам краткое содержание
Перед вами первая книга статей о литературе именно такого мастера – знаменитого писателя Павла Крусанова.
Хождение по буквам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Аксёнову удаётся решать поставленные задачи без проповедей и дидактики, просто перемещая место действия во внутренний мир героев. И в этом ему помогает искусство безошибочного выбора рассказчика. Однако Аксёнов – вовсе не «писатель-деревенщик», хотя, казалось бы, формально может быть причислен к этому направлению. Почему? В первую очередь благодаря органичной, но одновременно весьма непростой фактуре своего письма, самой ткани повествования, полной литературных перекличек и неожиданных культурных отголосков. Проза Аксёнова во многом сродни литературе «потока сознания», однако носитель этого текучего сознания , как правило, человек духовно рефлексирующий, которого ведёт во всех его бытийных перипетиях (прошу простить за пафос, которого в прозе Аксёнова днём с огнём не сыщешь) некий лучик Божий. И в этом угадывается определённое сродство его книг с духовной христианской литературой, раскрывающей смысл человеческой жизни через основание всех основ. Можно сказать, Аксёнов как художник (в широком смысле) занимает собственную, едва ли не уникальную нишу в русской литературе, по существу единой, даже если в свете злобы дня обнаруживается, что, например, Антон Павлович Чехов любил упоминать о своих украинских корнях, причисляя себя к «хохлам», а Николай Васильевич Гоголь, напротив, всегда называл себя русским писателем.
По существу книги Аксёнова – своего рода моления. Не молитвы, а именно моления (подзаголовок на титульном листе романа «Была бы дочь Анастасия», вышедшего в 2018 году в финал литературной премии «Национальный бестселлер», так прямо и указывает: «моление»), во время которых герой-рассказчик напряженно вглядывается в лица односельчан, в слепую вьюгу, в зелёный ельник, в неторопливую смену времён года и в движения собственной души. И тут становится понятно, почему Аксёнов, долгие годы живя на два дома (полгода в СПб, полгода в сибирской Ялани), не написал про Петербург (про героя в Петербурге) ни одного значительного текста. (По крайней мере нам такой не встретился.) Дело в том, что только в Ялани он и был счастлив, только там, где родился и вырос, где поймал первую рыбу и впервые влюбился, где солнце, снег и тугой ливень били ему в лицо и по коленям, испытывал полноту бытия (даже горечь утраты родителей и нравственные терзания, если это не муки чёрной совести, дают нам полноту чувствования и ощущение слияния с окружающим пространством, если угодно – с миром), а без этого ему не мила никакая иная красота. Поэтому он всё время мыслями и чувствами возвращается в колючую елово-пихтовую Ялань, как в утраченный Эдемский сад. Вот и в «Анастасии…» он открытым текстом, безо всякой кодировки говорит устами своего героя:
Не устаю в Ялани пребывать. Несуетливо, благостно, пусть и разруха. Место-то – намоленное и нажитое, горем и радостью наплаканное, да и не кем-то, а моими предками. Мне тут спокойно. Со всех сторон будто защищённый… Жил бы и жил здесь, думаю, несмотря на все бытовые трудности и неурядицы. Но так-то, может быть, с трудностями да неурядицами, и лучше. Душа в заботах, в злое не мятётся, здесь – как причастен будущему веку и как свидетель Жизни Вечной, а там, в большом городе, жизнь текущая всё затемняет, и мысли чаще об ином…
Или вот:
Как люди живут без этого, думаю. Живут же. Каждому своё. Другой, вдруг окажись надолго здесь, и от тоски бы тотчас помер или от страха. А мне вот – тут и век бы скоротал, наверное, не запечалился.
Курсивы, речевой ритм, даже знаки препинания – очень важны в мелодике авторского стиля Василия Ивановича, как и каждое выверенное на слух слово. В этом, как и в авторской интонации, и в точном выборе рассказчика, собственно, и заключается главное колдовство его книг. У Аксёнова нет напряженного сюжета – он вообще не любит фабульного строения текста, – но текст при этом насыщен потрясающей, завораживающей психодинамикой. Ведь его книги прежде всего о том, что человек – невероятен. С ним, человеком, за одну-единственную прожитую секунду происходит тьма превращений. Потому что глаза его – видят, уши – слышат, тело – осязает, душа – волнуется и болит. Каждая клеточка, ничтожная, невидимая, но входящая в состав человека – живая. А душа, когда она болит, – растёт. Кому-то мнится, что растёт как опухоль, к смерти, кому-то – к преображению в вечности.
Алла Горбунова работает иначе. Она легко меняет жанры, не чураясь даже тех, которые считаются служебными, вроде литературной критики. Впрочем, о критике говорить не будем. Как и о поэзии – это не наша поляна. Хотя люди сведущие едва ли не в один голос заявляют, что в своём поколении Алла Горбунова – один из самых ярких стихотворцев. Да и «Дебют» она получила именно как поэт. Нет оснований мнению спецов не доверять. Тем более если перед глазами такое:
в тишине налету-навесу осенённая глубь,
мурашки травы, аккордеон во сне,
дребезжанье и рябь, пробежавшая по стеклу,
словно в ветре свистит вальдшнеп.
дуговая растяжка, чубушник цветёт как рай,
свет террасы выходит из мглы,
чтобы вступить в гром и вороний грай,
в дальний скрежет лесной пилы,
в стук возвращенья в дверь и в надрывный плач
егерской дочки, что с милым сбежала прочь,
но никто не откроет дверь, и отец-палач
скорее задушит, чем снова примет дочь.
в разрушенной вспышке высветились, дробясь,
два огненных мира в двойных зеркалах из воды.
уплывает под пальцами полузабытая вязь
сна во сне, что запутал следы.
Латиняне говорили: по когтю узнают льва. Тот самый случай.
Гораздо меньше публика знает Горбунову как весьма своеобразного, колоритного прозаика, и эту несправедливость следует немедля устранить. Поведаем миру о книге Горбуновой «Вещи и ущи», увидевшей свет в прошлом году.
В этом сборнике под сотню фрагментарных, но тем не менее выстраивающихся в облачное композиционное единство миниатюр. Опыты ли это последнего времени, или книга складывалась годами – неизвестно. По некоторым признакам – росла постепенно, как растёт геологический пласт или дерево кольцами, но это не суть важно.
На первой же странице автор проводит перед читателем блесну, сев на которую читатель слезть уже не сможет:
Многие люди, после смерти оказавшись в аду, обращаются к психологам, психотерапевтам и психоаналитикам, потому что у них развивается невроз от того, что они в аду. Я сама работаю в аду психоаналитиком, и в моей практике ко мне часто обращаются пациенты, которые говорят, что были хорошими людьми и никому ничего плохого не сделали, и сам факт, что они оказались в аду, для них непонятен и мучителен.
Это не банальная аллегория реальности – всё куда интереснее. Работающий в аду психоаналитик действительно предлагает своим пациентам, угодившим в преисподнюю, прекрасно продуманную, полную достоинства и смирения инструкцию по поводу того, «как стоит себя вести в этой непростой ситуации».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: