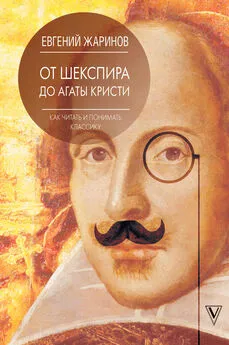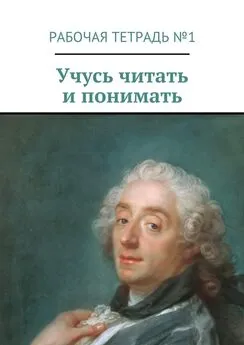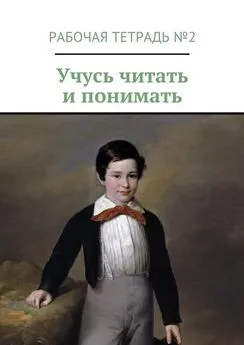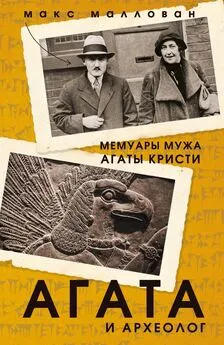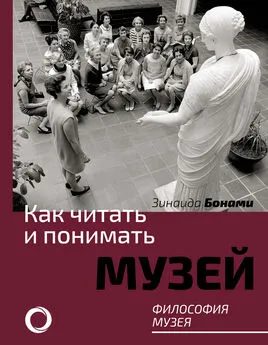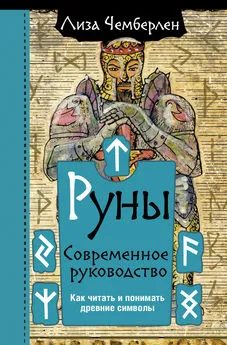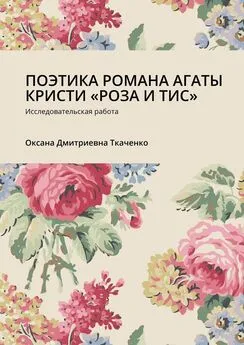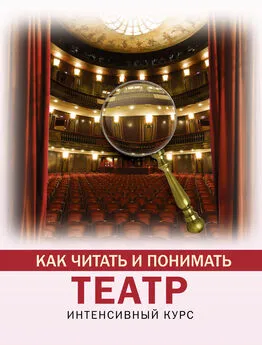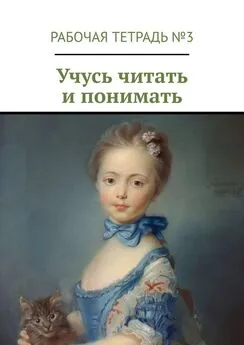Евгений Жаринов - От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику
- Название:От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-109003-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Жаринов - От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику краткое содержание
Евгений Викторович Жаринов – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Московского государственного лингвистического университета, профессор Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина, ведущий передачи «Лабиринты» на радиостанции «Орфей», лауреат двух премий «Золотой микрофон».
От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Здесь важны следующие моменты: во-первых, два из самых сильных страхов большинства людей, страхов, укоренных в ментальности – страх Сатаны и страх моря, экзистенциально связывались с безумием. Один из персонажей Эразма Роттердамского, восклицает «Довериться морю – это безумие». Поэтому сумасшествие и лечилось столь «радикальным средством», как путешествие в страхом переполненное изменчивое море. Во-вторых, вытесняя страх, борясь с сумасшествием, «леча» его, западноевропейское общество попутно боролось с одиночеством бродячих сумасшедших, юродивых, дурачков, насильственно создавая им на «корабле дураков» микромодель, копию «нормального» общества (социума), состоящего из людей себе подобных, однородных в своем безумии. И, тем самым, неявно причисляло к разряду безумцев самих путешественников.
Здесь следует обратить внимание на два очень важных обстоятельства в пьесе «Гамлет». Клавдий собирается вылечить от безумия Гамлета, сажая его на корабль и отправляя в Англию, а в самом знаменитом монологе «Быть или не быть» принц упоминает о «целом море бед», с которым следует покончить и таким образом избавиться от страха Смерти. Постоянный, вездесущий, всепроникающий страх укоренялся в мире, среди людей, внутри человека именно потому, что все негативное (бедствия, смерть, болезнь, лишения, утраты) не происходит «само по себе», оно неестественно, является следствием вмешательства дьявольских сил и более того, местью оскорбленного святого, праведников (например, болезни). Особый род страхов – страх демонических сил, страх сатаны, к которому примыкал страх волков (оборотней) – «адского зверя», страх безумия (безумец – добыча Сатаны), и страх искушения поисками земного рая (хотя именно ожиданием земного рая был пропитан миллениаризм).
«Двойной ужас» (Ж. Делюмо) – страх Сатаны и апокалиптический страх близкого конца света – сотрясал Германию в XVI в. и начале XVII в., благодаря откровениям М. Лютера, Ж. Де Терамо, А. Мускулуса, А. Данэ и многих других. Исследования подобной литературы позволило Ж. Делюмо (вопреки другим исследователям) сделать рискованный вывод о том, что именно в начале Нового времени (а не в Средневековье) ад, его обитатели и служители завладели воображением народов Запада, а кульминация страха Сатаны в Европе наступила во второй половине XVI – начале XVII вв.
В классификации страхов, берущих начало в Средневековье, особое место занимает страх завязывания узелка, который символизировал кастрацию, отсечение гениталий, бесплодие, импотенцию, фригидность (свидетельства Т. Платтера, П. де Ланкра, Ж. Бодэна и др.). Этот страх провоцировал панику и инициировал поиск различных способов защиты от завязывания узелка. В эпоху Возрождения, в начале Нового времени этот страх выходит на страницы письменной культуры, о нем пишут Монтень, Рабле, Бодэн, кюре Шартрской епархии Ж.-Б. Тьер в «Трактате о суевериях, касающихся освящения» (1679). М. Монтень связывал страх завязывания узелка (как страх кастрации), с феноменами психологических операций – торможения и блокировки (феноменом опережающего фиаско). Ж. Делюмо полагает, что причина торможения – в женоненавистнических проповедях священников и демонологов, нагнетающих страх перед женщиной, подозрение к сексу, браку и половой близости.
Мишель Монтень ориентирует самого себя и читателя на борьбу со смертью и освобождение от страха смерти. И предлагает средства борьбы со смертью и со страхом из арсенала будущих экзистенциалистов: «разглядывание их вблизи», осмысление смерти и страха, формирование комплекса упражнений для подготовки к смерти, основанных на понимании того, что страх – это состояние потрясенности, вызванное часто нашим воображением, тогда как это состояние требует постоянной готовности к испытаниям. Монтень приводит слова Лукреция: «Из-за страха перед смертью людей охватывает такое отвращение к жизни и дневному свету, что они в тоске душевной лишают себя жизни, забывая, что источником их терзаний был именно этот страх». Мишель Монтень в «Опытах» посвящает страху специальное эссе, в котором определяет страх как «страсть воистину поразительную», более других выбивающую рассудок из колеи. Недаром он в качестве эпиграфа берет цитату из Вергилия «Я оцепенел; волосы мои встали дыбом, и голос замер в гортани». Поэтому Монтень констатирует, что страх может «окрылять нам пятки», или пригвождать и сковывать ноги. Но важным является для Монтеня зафиксировать крайнюю степень страха (которую можно определить как позорную храбрость труса) – когда, находясь под воздействием страха, человек проникается той самой храбростью, недостающей перед лицом страха, и с античным ригоризмом заключить: «Вот чего я страшусь больше самого страха». Мишель де Монтень в своих «Опытах» размышляет о проблеме смерти в традициях античной ментальности: нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер (выявляя доблестные и удачные смерти), и разделяет мнения Платона и Цицерона о философствовании как подготовке к смерти. По мнению Монтеня, смысл и предназначение философии, в конечном счете, в том, что она должна научить нас не бояться смерти. Монтень в духе стоиков резюмирует, что предвкушение смерти есть предвкушение свободы, а тот, кто научился умирать, тот разучился рабски служить. В эссе «Обычай острова Кеи» он исследует обычаи самоубийства у разных народов. Греки и римляне соотносили смерть со стыдом (унижением, бесчестием), и приходили к выводу, что самоубийство может быть интерпретировано как свобода, выход из морального тупика. Для этого описанные Монтенем персонажи производили сугубо экзистенциальную процедуру: они отделяли собственно самоубийство от смерти, и рассматривали смерть как достойное презрения, а стыд, муки от малодушия, и те жизненные положения, когда «жизнь хуже смерти» опускали ниже самой смерти в моральной иерархии. В этом случае смерть как самоубийство становилось «возможностью сбежать» от того, что еще хуже. Но ускользнуть от смерти невозможно.
Вывод, к которому приходит Монтень: «Смерть – не только избавление от болезней, она – избавление от всех зол». Но это достижимо только в том случае, если смерть зависит от воли человека. Именно золение обеспечивает свободу от смерти как главного средоточия страха. И тогда смерть, полагает Монтень, может предстать «надежнейшей гаванью», которой никогда не надо бояться и к которой часто следует стремиться. Жизнь зависит от чужой воли, смерть же – только от нашей. «Ставя нас в такое положение, когда жизнь становится хуже смерти, Бог дает нам при этом достаточно воли». Когда Гамлет в своём знаменитом монологе рассуждает о смерти, то его рассуждения о допустимом самоубийстве, о добровольной смерти, как о возможном решении всех проблем бытия, о смерти как избавлении и прочее очень уж напоминают выдержки из приведённого эссе Мишеля Монтеня. Монтень сопоставляет аргументы приверженцев тезиса «смерть-лекарство» (стоиков, киников, Гегесия) с мнением тех, кто полагает, что выбор жизни и смерти принадлежит только Богу, и поэтому законы судят нас за самоубийство. В этом случае, считает Монтень, «больше стойкости – в том, чтобы жить с цепью, которою мы скованы, чем разорвать ее». Только неблагоразумие и нетерпение побуждают нас ускорять приход смерти. Подлинная добродетель остается верна себе даже в горе и страдании. В конечном счете, Монтень в поисках «меры» вескости причин самоубийства как «разумного выхода», о котором толковали стоики, приходит к выводу: только невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству. Монтень констатирует, что никакими «внешними», телесными упражнениями (закаливаниями, приобретением стойкости в перенесении невзгод, боли, стыда) невозможно приучить себя к смерти, поскольку ее можно испытать только раз в жизни, и каждый остается «новичком», приближаясь к смерти. Люди древних времен, которые умели получать наслаждение от самой смерти и умели заставить свой ум понять, что представляет собой это переход к смерти, не могут, к сожалению, вернуться обратно и поделиться знаниями. Но, несмотря на изначальное и непреодолимое несовершенство и неполноту нашего опыта «общения» со смертью, Монтень полагает, что есть некий «способ приучить себя к смерти и некоторым образом испробовать ее». Это, естественно, не погружение в смерть, а приближение к ней и рассмотрение ее, чтобы ознакомиться с подступами смерти (по аналогии со знакомством со сном, так похожим на смерть). Смерть как сон не раз упоминается и в романе «Дон Кихот», и в знаменитом монологе Гамлета: «Скончаться. Сном забыться. Уснуть… и видеть сны? Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, Когда покров земного чувства снят? Вот в чём разгадка. Вот что удлиняет Несчастьям нашим жизнь на столько лет…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: