Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны
- Название:Иностранная литература: тайны и демоны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-121796-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны краткое содержание
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Их оценки и мнения часто не совпадают с устоявшейся точкой зрения – идеи, мысли и открытия рождаются прямо на глазах слушателей.
Вот уже десять лет визитная карточка «Прямой речи» – лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции – всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Иностранная литература: тайны и демоны» – третья книга лекций Дмитрия Быкова. Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Ги де Мопассан, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Джоан Роулинг, Стивен Кинг…
Иностранная литература: тайны и демоны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Да, он умел шутить с простонародьем, этот олдермен Кьют!
– Ну, отправляйтесь восвояси, – сказал олдермен, – и кайтесь в своих грехах. Да не смешите людей, не женитесь на Новый год. Задолго до следующего Нового года вы об этом пожалеете – такой-то бравый молодец, на которого все девушки заглядываются! Ну, отправляйтесь восвояси.
Они отправились восвояси. <���…> …она – в слезах, он – угрюмо глядя в землю [23] Перевод М. Лорие.
.
«В наилучшем расположении духа» олдермен дает Тоби отнести письмо, и Тоби под звуки колоколов «Упразднить! Упразднить!» отправляется в дом, где его ждет нечто совсем иное, гораздо более веселое. Там живет настоящий друг бедняков, который говорит следующее:
– Я делаю все, что в человеческих силах <���…>. Я выполняю свой долг как Друг и Отец бедняков; и я пытаюсь образовать их ум, по всякому случаю внушая им единственное правило нравственности, какое нужно этому классу, а именно – чтобы они целиком полагались на меня. Не их дело заниматься… э-э… самими собой. Пусть даже они, по наущению злых и коварных людей, выказывают нетерпение и недовольство и повинны в непокорном поведении и черной неблагодарности, – а так оно несомненно и есть, – все равно я их Друг и Отец. Это определено свыше. Это в природе вещей.
На обратном пути Тоби слышит, как колокола вызванивают: «Друг и Отец! Друг и Отец!» – и сталкивается с Уиллом Ферном, которого олдермен собирается «упразднить».
Уилл Ферн, один из главных персонажей повести, виноват только в том, что осмеливается бродяжничать, хотя он просто ищет работу. В назидание его предлагают посадить в тюрьму, а в тюрьму он не может, потому что воспитывает дочь своего умершего брата, прелестную девятилетнюю девочку.
Не буду пересказывать сюжет, хотя сцена, когда этот трясущийся, несчастный Трухти несет на руках к себе домой девочку, отогревая ей ножки, относится к числу сильнейших у Диккенса. Но самая сильная в повести не сентиментальная часть. Самое прекрасное, что церковные колокола, духи церковных колоколов вызванивают не мирную проповедь, звонят не к веселью и не к радости – они взывают к гневу, они взывают к протесту. Диккенс, который пародирует, насмешничает, который выводит в повести этих запретителей, уничтожителей, упразднителей всего, благотворительных сострадальцев, впервые по-настоящему после «Приключений Оливера Твиста» (1837–1839) возглашает прямую проповедь непокорности, несмирения.
Мы, англичане, пишет Честертон, многое «взяли напрокат, особенно то, чем больше всего гордимся. Имперскую политику – из-за границы, и милитаризм, и просвещение, и даже либеральность. А вот радикализм у нас был свой, английский, как живая изгородь». Слово англичанина не расходится с делом. Он не может молча смотреть на чужое бедствие; он не будет, как русский человек, глядя на девочку со спичками, бесконечно размышлять о том, как это ужасно, как он себя при этом отвратительно чувствует. Англичанину свойствен пафос активного действия. Для Диккенса это не ниспровержение, не разрушение, не месть – это немедленное благое дело: накорми голодного, утешь обиженного, приведи домой замерзшего. И то, что этот пафос активного действия в «Колоколах» заявлен, делает эту вещь практически классикой. Я думаю, не зря Диккенс ценил ее выше всех, хотя коммерчески она была далеко не так успешна, как первая и третья.
Третья – самая успешная во всех отношениях рождественская повесть Диккенса – «Сверчок за очагом. Сказка о семейном счастье», которая экранизировалась бесчисленное количество раз, которая ставилась на сцене бесчисленное количество раз, которая почти одновременно с публикацией появилась на лондонских сценах, – и это самая слабая его рождественская повесть. Она «так уютна, что мало трогает», – жестко отозвался о ней Честертон. Диккенс «ухитрился нагромоздить в доме столько подушек, что его героям стало трудно двигаться». Это самая плюшевая из его вещей и, может быть, самая слащавая. Перед нами образцовая во всех отношениях семья, где прелестная маленькая супруга, похожая на пышку, с двухмесячным сыном на пухленьких ручках, который уже умеет хватать себя за ножки, и муж ее, возчик, «такой грубый с виду и такой мягкий в душе», не очень молодой («крепкая зрелость» сказано о нем), огромный (чтобы поцеловать жену, ему приходится сгибаться чуть ли не вдвое, но ради такого удовольствия стоило и согнуться, конечно), – и эта идеальная семья начинает нас безумно раздражать уже на первых страницах. Хочется, чтобы либо муж немедленно увлекся маленькой нянькой своего сыночка и получилась бы такая преждевременная «Лолита», либо чтобы вскрылось какое-нибудь роковое обстоятельство, например, они оказались бы отцом и дочерью, не узнавшими друг друга. Ну невозможно смотреть на это.
Раздражает и дикое диккенсовское многословие, особенно потому, что автор никому уже не должен 270 фунтов, уже ему все должны. Вот начало повести в прелестном переводе М. Клягиной-Кондратьевой, но никакой перевод ничего не сделает с этим раздражением.
Начал чайник! И не говорите мне о том, что сказала миссис Пирибингл. Мне лучше знать. Пусть миссис Пирибингл твердит хоть до скончания века, что она не может сказать, кто начал первый, а я скажу, что – чайник. Мне ли не знать! Начал чайник на целых пять минут – по маленьким голландским часам с глянцевитым циферблатом, что стояли в углу, – на целых пять минут раньше, чем застрекотал сверчок.<���…>
Я вовсе не упрям. Это всем известно. И не будь я убежден в своей правоте, я ни в коем случае не стал бы спорить с миссис Пирибингл. Ни за что не стал бы. Но надо знать, как было дело. А дело было так: чайник начал не меньше чем за пять, до того, как сверчок подал признаки жизни. И пожалуйста, не спорьте, а то я скажу – за десять!
Чайник и сверчок соревнуются, кто из них поет лучше. Соревнуются они четыре страницы. То, что песнь чайника – это песня призыва и привета, обращенная к кому-то, кто ушел из дому и сейчас возвращался в свой маленький уютный домик к потрескивающему огоньку, в этом нет никакого сомнения:
Нынче ночь темна, пел чайник, на дороге груды прелого листа, и внизу – только грязь и глина, а вверху – туман и темнота; во влажной и унылой мгле одно лишь светлое пятно, но это отблески зари – обманчиво оно; небеса алеют в гневе; это солнце с ветром вместе там клеймо на тучках выжгли на виновницах ненастья; длинной черной пеленою убегают вдаль поля, вехи инеем покрылись, но оттаяла земля…
Ну полная «Песня о Буревестнике»!
Песню подхватывает сверчок, «оба они были взволнованы как на гонках» – еще страница:
Стрек, сгрек, стрек! – Сверчок вырвался на целую милю вперед. Гу, гу, гу-у-у-у! – Отставший чайник гудит вдали, как большой волчок. Стрек, стрек, стрек! – Сверчок завернул за угол. Гу, гу, гу-у-у! – Чайник гонится за ним по пятам, он и не думает сдаваться. Стрек, стрек, стрек! – Сверчок бодр, как никогда. Гу, гу, гу-у-у! – Чайник медлителен, но упорен. Стрек, стрек, стрек! – Сверчок вот-вот обгонит его. Гу, гу, гу-у-у! – Чайника не обгонишь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/371989/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura.webp)

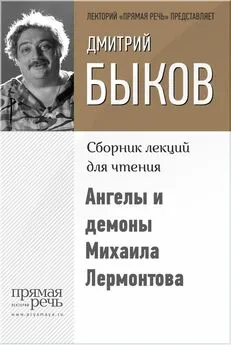
![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/587604/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite.webp)

![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)



